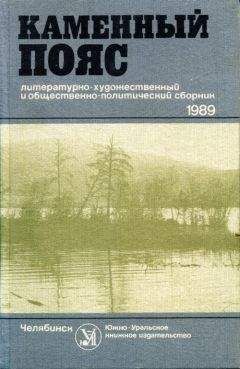Но какое дело мне, неизлечимо больной женщине, до этого Мазова! Все это блажь и дурь. Прощай, левитановская лужа!
Я перебегаю через дорогу, решив заскочить в магазин за молоком, которым мы «химию» вымываем, и здесь сталкиваюсь с двумя больными мужского пола. Судя по звукам, при помощи которых они общались, я понимаю, что больны они раком горла:
— Тебе врач говорил, чтобы ты не курил, — сипел один.
— Тебе тоже говорил, — хрипел другой. И оба трусцой, трусцой, но прямым ходом к магазину, разумеется, за сигаретами. Я чуть не расхохоталась.
* * *
Октябрь. Миновало дивное бабье лето. Сыро. Грязно. Тускло. Тоска. Мы не сидим больше на уютном балкончике, и продукты срочно пришлось отсюда экспортировать: кто на окно, кто по тумбочкам (места для них не хватает в двух коридорных холодильниках). Вчера на утреннем обходе Кира Сергеевна — вся сама бесстрастность, полуулыбка в уголках губ:
— Есть ли просьбы, женщины, жалобы?
27-летняя Лена возьми да брякни:
— Кормят плохо.
Миниатюрная Кира Сергеевна изумленно воззрилась на крупную и полную Лену:
— Но в тумбочках, я думаю, у всех есть, что поклевать? Что-то не вижу я здесь худеньких. Даже самая стройная из вас (выразительный взгляд в мою сторону) — стала полнеть.
Если я и начинаю полнеть, то отнюдь не благодаря здешнему питанию. Виной тому гормональный препарат преднизолон, которым меня усиленно кормили в прошлом месяце.
Нас в палате пятеро: Наташа, Валентина Ивановна, Лена, Катя и я. Катя поступила к нам сегодня. По профессии она медсестра. Не знаю, все ли медицинские работники, оказавшись в больнице, ведут себя так, как она, но мне за нее стыдно. Жалость к себе переполняет ее до краев и выливается обильными слезами. Но главная беда в том, что ее плавная речь нараспев, пересыпанная безобидным матерком, буквально завораживает женщин и погружает их в бездну отчаяния и вселенской тоски:
— И вот, понимаешь ты, как вылезли у меня эти лимфоузлы, а я уж знаю, что это такое, недаром, что в больнице работаю, говорю старшей сестре: «Посмотрите, Клавдия Ивановна, что это у меня», а она мне: «Наверное, лимфоденит». А я плачу, плачу: какой же лимфоденит, разве я не понимаю… А она мне: «Ты, Катя, не волнуйся, поезжай в область». А потом уж, как приехала сюда, радиолог, Эмма Петровна, меня смотрела. «Что ж, — говорит, — лимфогранулематоз». А я плачу, плачу, а она: «Мне здесь ваши слезы не нужны, надо биопсию делать. Вы согласны? Если нет, то мы другой больной место отдадим». — Согласна, говорю, а сама плачу, плачу, ничего с собой, понимаешь ты, сделать не могу. Вышла я в коридор, смотрю, а здесь и не плачет никто. Сидят все, разговаривают. Что же это за больница такая, думаю, почему здесь никто не плачет?..
К концу этого повествования рыдала вся палата. Кроме меня. Я же с трудом сдерживалась, чтобы не сорваться и не накричать на слезоточивую Катерину.
— Нет, уж что говорить, — продолжала сквозь слезы петь Катя, — ракушки мы тут все и сдохнем скоро.
— Так зачем же ты сюда ездишь тогда? Зачем лечишься?! — не выдерживаю я.
— Как же, Сонечка, ведь двое детей. На кого их? Муж на «скорой» работает, пьет, мерзавец, может и теперь где пьяный валяется, а младшенькой два года…
— Значит, веришь все-таки! И нечего слезы лить и расстраивать всех! Врачам тоже помогать нужно!
Я выбежала из палаты, хлопнув дверью. Нет, какова! Несчастнее ее нет в целом свете! А что же делать тогда Лене, у которой прооперирована грудь, или Наташе, у которой недавно умер муж? Ни слова жалобы не слышала я от них. Да и я сама, в конце концов. Стоп. Здесь-то я держусь, но дома… бедные мои родные! Да не больше ли это грех — мучить близких людей? Она сказала о детях. У меня дома сын трех лет, вечная моя боль.
…Я прихожу из больницы на несколько часов, стираю и глажу ему белье, чтобы он пошел в садик во всем чистом, потом ухожу. И я слышу, спускаясь вниз по лестнице, как он колотит кулачками в дверь и кричит:
— Мама, не уходи! Мама, не уходи!
Почему мое сердце ни разу не разорвалось от этих криков? Да разве я знаю, почему? Почему живет человек, ничтожный червяк, и долго живет, и благополучно, а маленький человек, и не живший еще совсем, страдает от страшных мучений и погибает? Где здесь справедливость или даже простая логика?!.
Дети здесь. И они не жалуются. Только одна двухлетняя малышка, которую маленькая мама, сама полуребенок, все время носит на руках, плачет от страшных болей (что-то с ушком, головка перевязана). Мать прижимает ее к себе, должно быть, уже не находя слов для утешения. Я помню, как однажды вечером она просила дежурного врача: «Пожалуйста, нужно сделать перевязку… пожалуйста…» Он стоял перед ней, взрослый, большой, сильный мужчина, и лепетал, беспомощно разводя руками: «У нас нет перевязочного материала, завтра привезут…» — и я почувствовала тогда страшный стыд за то, что он говорил этой женщине.
Маленький Сашок сказал сегодня, показывая прозрачную ручку:
— Вот сюда мне делали укол, в эту вену, а я и не плакал совсем.
Да, наверное, я была не права в своем праведном гневе. Я возвращаюсь в палату, и Валентина Ивановна тут же и выдает мне назидательно:
— Ты не права, Сонечка. Жаль, ох как жаль вас, молодых. Мы-то хоть пожили, вот и еще год прожит — и слава богу. А вы, молодые, вы и не жили совсем. Вас-то как жаль!
— А дети? — спрашиваю я, — детей не жаль?
— Дети — не жильцы, — говорит рассудительная Валентина Ивановна. Как страшно она это сказала: не жильцы.
Я подсаживаюсь к Наташе, которая учит меня вязать. Всегда веселая, живая, сегодня и она хандрит. Вдруг вспоминает мужа:
— Перед операцией пришел. Пьяный. «Что все пьешь, — говорю, — смотри, вот сдохну скоро», а он мне: «Да я еще раньше тебя сдохну», — и вот… нет его уже, — быстрые мелкие слезы побежали у Наташи из глаз.
Муж умер месяц назад от астмы.
— Не приду больше сюда, — решительно говорит Наташа, — хватит, пожила. Трое детей, пятеро внуков. Работать пойду.
— Не больно-то, Наташенька, нашего брата на работу берут, — Валентина Ивановна повернулась к нам всем корпусом, не одна беседа без нее не обходится.
— А я справку показывать не буду.
— Какую справку? — спрашиваю я.
— А ты не знаешь?
— Наташа, она не знает. Откуда ей знать, она ж первый раз… Сонечка, справку нам дают с группой, второй или третьей, а кому повезет, так и первую отвесят. Там все, в этой справке: кому можно работать, кому нельзя. Да только кому мы нужны?.. Опять же, в трудовой книжке штамп… Нет, Наташка, не выйдет ничего. Трудовую все равно покажешь, а там — штамп…