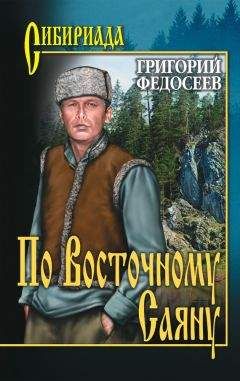К вечеру собрался консилиум, пришли лучшие врачи города. Был здесь и Василий Георгиевич. Увидев Фаину в сплошных пятнах ожогов, он ощутил физическую и душевную боль. Вместе с тем он почувствовал, как все его существо как бы отгораживается от той, которая лежала сейчас под проволочным каркасом, обтянутым марлей, освещенная, как музейная редкость, десятками электрических лампочек. Трудно было поверить, что то, что лежало сейчас перед ним, было крепкой, стройной женщиной, с гибким станом, с упругой походкой, с неистребимой энергией и радостью жизни в голубых, со стальным отливом глазах.
— Обожжено больше трети поверхности тела. Вы же знаете, уважаемые коллеги, что не так страшен сам ожог, как опасна ожоговая болезнь, интоксикация, самоотравление организма ядами отмирающих на живом теле тканей. Где-то это очень близко к трупному заражению, к самозаражению. Не исключен летальный исход…
Речь главного хирурга города Михаила Васильевича Дорогавцева была пересыпана латинскими словами.
В кабинете, куда перешли врачи из палаты, стояла непривычная строгая тишина, за окном — ночь.
— Нам предстоит сложная задача. Но эту женщину мы обязаны спасти, — продолжил старый хирург. До войны Михаил Васильевич ушел на пенсию, а теперь снова сутками не уходил из больницы. — Будем ждать кризиса. Если пациентка перенесет его… А надо, чтобы перенесла.
Он погасил в пепельнице выкуренную лишь до половины папиросу и сказал:
— Желающих приглашаю еще раз осмотреть больную.
Впереди пошел он сам, невысокий, сильно сутулящийся, седой. На полшага сзади уверенно шагал статный, молодцеватый Василий Георгиевич. Он невольно укорачивал шаги, словно боялся обогнать Дорогавцева.
Все снова пришли к белому шатру, Михаил Васильевич стал расспрашивать плачущих санитарок и сестер, как ведет себя больная под белым каркасом.
И вдруг все замерли от неожиданности. Затуманенным болью взглядом на врачей смотрела Фаина. Глаза ее медленно двигались от одного к другому. Некое подобие улыбки тронуло губы.
— Как вас много!.. Из-за меня одной? Как же остальные… без врачей будут?
— Тебе не надо ни о чем беспокоиться, милая, — проникновенно ответил ей Дорогавцев. — Мы не отдадим тебя…
— Хлопот я вам… наделала.
Фаина застонала, скрипнула зубами, закрыла глаза. Лицо исказилось гримасой боли. Беспамятство снова одолело ее.
— Невероятно, — прошептал Дорогавцев. — Потрясающее самообладание! Идемте, друзья. Очень, очень жаль, если ее не станет, — сказал он уже за дверями палаты. — Сейчас позаботьтесь о самом квалифицированном, круглосуточном дежурстве. И никаких родственников! Только мы. Сами.
Постепенно из кабинета Дорогавцева ушли все. Остался лишь Василий Георгиевич.
— Форменное безобразие — ставить на такую работу женщин. Варварство… — как бы самому себе сказал Михаил Васильевич.
— Так ведь она сама. Понимаете, сама настояла, чтобы ее допустили к домне, — возразил Василий Георгиевич.
— Не повторяйте прописей, — отмахнулся старый врач. — Я хочу понять, как и что конкретно руководило этой женщиной. Откуда эта… непреклонность, что ли? Откуда все это выросло? Из чего?
* * *
Фаина почти не осознавала, что делали с ней. В короткие проблески сознания она превозмогала мучительную боль шутками. Эти шутки заставляли людей украдкой вытирать слезы. Она рассказывала им о себе, о своей матери, о подружке Галиме, о рябине, из которой делала бусы и браслеты, о брате Семене, который где-то воевал, о Федосееве и о неблагодарной Домне Ивановне, железной свекровушке, так безжалостно изувечившей ее…
Но с каждым часом, с каждым днем ее рассказы становились короче и сбивчивее. Неузнаваемо распухло лицо, губы покрылись струпьями и еле шевелились. На четвертый день она могла только беззвучно шевелить губами. Недоумевала, почему это все плачут вокруг?..
Кризис, которого с горячим нетерпением ждали врачи, долго не наступал. Прошла неделя, а положение не менялось. Моменты, когда к Фаине возвращалось сознание, становились все реже и короче. Временами Фаина бредила, беззвучно кричала, звала кого-то, бессильно пыталась изменить положение уставшего лежать на спине тела, обрывала лямки, державшие на весу руки и ноги. Казалось, неумолимо надвигался роковой исход.
…Фаине мнилось, что они с Галимой жарким летом сидят на холме под рябиной и Галима надевает ей на руки и ноги тысячу браслетов, сделанных из ягод рябины. Ряды браслетов доходят до локтей и плеч, поднимаются выше, тугими удавками охватывают грудь и шею. Фаина понимает, что вовсе это никакая не рябина, а капли раскаленного шлака, кипящего чугуна. Она пытается сбросить, отряхнуть с себя эти тысячи браслетов и поясов, бус и удавок, но они уже впились, раскаленные, в живое тело, от которого поднимается удушливый зеленый дымок…
Потом ей казалось, что она расшибает пикой спекшуюся от страшного жара глину, а глина не поддается. Она бьет все сильнее и сильнее. Неожиданно вся доменная печь обнажается. Фаина со страхом видит, как отлетают огромные листы обшивки, рушится толстая огнеупорная кладка, а высоченный пылающий конус руды и кокса медленно оседает, засыпая ее с головой, испепеляя, хоронит под собой.
То вдруг она видит забежавшего на часок брата перед самой отправкой на фронт. Он в гимнастерке, в хлопчатобумажных бриджах. Он показывает Фаине черный пластмассовый патрон, где скручен в трубочку кусочек тонкой бумаги.
— Паспорт смерти, — говорит Семен, — это все, что от меня осталось, когда я сгорел в танке…
И Фаина не удивлялась, что он стоит рядом, живой и одновременно сгоревший. Разве с ней не случилось то же?..
Фаину кормили через тонкую резиновую трубочку, пропущенную в нос. Одну за другой сменяли марлевые салфетки, пропитанные растворами то марганцовки, то риванола, то жидкой мазью Вишневского, пахнущей серой и сапожным дегтем. Время от времени в вену меньше обожженной руки вливали через капельницу кровь. Но язвы ожогов становились шире и угрожающе углублялись. Даже привыкшие ко всему сестры содрогались, когда нужно было делать очередную обработку. Лицо Фаины делалось бледнее, ее движения — более редкими и вялыми, голоса давно уже не стало слышно.
На улицах города весна все смелее и шире шла в наступление. Дни были ветреные, солнечные. Длинные сосульки на крышах росли от ветра как-то вкривь и вкось. Взлохмаченные воробьи с криком дрались, скандалили на тротуарах и крышах…
Фаина жила в это время как бы в двух мирах. Один был жестокий, реальный — с болью, пытками перевязок. Другой мир был добр, зелен и тепел, как детство, звонок, как юность, уверен, как зрелость. И эти миры вращались, сменяя друг друга.