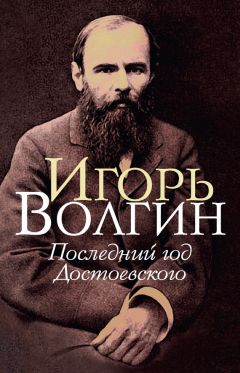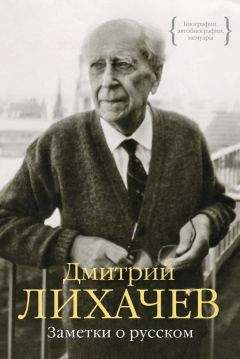Из всех персонажей романа пока наибольшим вниманием рецензентов пользовалась «загадочная прелестница» – Грушенька. «Эта Грушенька, – замечает Скабичевский, – пока ещё скрывается в тумане, но на следующих страницах она не замедлит, конечно, предстать во всём своём блеске, окажется без сомнения в свою очередь маньячкой и тем не менее завлечёт в свои обольстительные сети не только папеньку и сына его Дмитрия, но и остальных братьев, не исключая и набожного святошу Алексея…»[167]
Через несколько дней это суждение почти слово в слово повторит и «Некто из толпы»: когда Грушенька явится на сцену, тогда «в тихом, розовом Алёше наверно тоже скажется кровь Карамазовых»[168].
Любопытно, что в этих первых газетных откликах как бы предвосхищена одна из версий продолжения «Братьев Карамазовых»: пробуждение в Алёше карамазовского начала, его роман с Грушенькой и т. д. Правда, никто из критиков не догадывается пока о другом возможном варианте: об Алёше, идущем на эшафот.
«Достоевский пишет романы не по шаблону, и угадать его мысль не так легко, как у людей, сочиняющих своих героев в кабинетах»[169], – замечала «Газета А. Гатцука». «Его не все любят, им не увлекаются, – писал «Голос» 8 марта, то есть накануне интересующего нас вечера, – он редко доставляет чарующее наслаждение; но его все читают, он даёт наслаждение безжалостной правды даже в своих эксцентричностях…»[170]
Это была первая большая статья о «Карамазовых»: она не имела подписи[171].
Как и следовало ожидать, большая либеральная газета оценивала новый роман более чем прохладно. «“Братья Карамазовы” производят очень странное впечатление, – писал безымянный рецензент. – Мы отбрасываем в сторону самоё появление их в Москве, на страницах тенденциознейшего и несимпатичного журнала. Для беллетристов, как известно, нет отечества в смысле журнальных партий и направлений. Но именно в романе г. Достоевского… замечается тенденция. Из-за Достоевского-беллетриста, незаметно, быть может, для самого автора, сквозит Достоевский-публицист».
Это было старое, успевшее стать привычным обвинение. Но если раньше размежевание между художником и мыслителем проводилось, как правило, по жанровому принципу (так, всё «нехудожественное», что печаталось в «Дневнике писателя», упорно противополагалось «художественному» в романах), то теперь водораздел сооружался внутри самой романистики, где, по замечательному представлению критика, «беллетрист» и «публицист» поочередно менялись местами.
У автора «Карамазовых», продолжал вчерашний «Голос», «что ни образованный человек, то или негодяй, или психически больной»[172]. Сим намекалось на авторскую подозрительность по отношению именно к той публике, которая ныне собралась в зале.
Не было никакой уверенности, что аудитория отнесётся к новому роману одобрительно.
Автор мог бы действовать наверняка: прочитать что-нибудь из старого, уже апробированного, пользовавшегося стойким эстрадным успехом. «Накануне этого вечера, – вспоминает Анна Павловна Философова, – я виделась с Достоевским и умоляла его прочитать исповедь Мармеладова из “Преступления и наказания”. Он сделал хитрые, хитрые глаза и сказал мне:
– А я вам прочту лучше этого.
– Что? Что? – приставала я.
– Не скажу»[173].
Вечер первый. Продолжение
Он выбрал для чтения главу «Исповедь горячего сердца»: первый большой разговор братьев – Дмитрия и Алёши, рассказ Мити о том, как к нему «сама пришла» Катерина Ивановна – просить для отца четыре тысячи – и что между ними произошло.
Все, кому довелось видеть Достоевского на эстраде, отмечают его «несценичность»: небольшой рост, мешковатость, отсутствие импозантности. Он не обладал тем, что принято называть актёрским обаянием. Вдобавок ко всему, у него был слабый голос, часто прерываемый сухим кашлем (эмфизема лёгких и непрерывное курение давали себя знать).
«Начал он вяло и скучно: речь шла о такой чертовщине в полном смысле слова, что я невольно подумал: “вот человек… какой-то апокалипсис объясняет”»[174] – так передаёт своё первое впечатление весьма не расположенный к Достоевскому Садовников. По-видимому, он не был одинок. Другой очевидец (В. В. Тимофеева) так описывает происходящее: «Мне представлялось, как будто слушатели, бывшие в зале, сначала не понимали, что он читал им, и перешёптывались между собою:
– Маниак!.. юродивый!.. Странный…
А голос Достоевского с напряжённым и страстным волнением покрывал этот шёпот…
– Пусть странно! пусть хоть в юродстве! Но пусть не умирает великая мысль!»[175]
Если Тургенев являлся перед публикой, заведомо к нему расположенной (когда он вошёл в залу, вспоминает А. П. Философова, «все как один человек, встали и поклонились королю ума»[176]), готовой благодарно отозваться на каждое его слово, то для Достоевского ситуация была иной: дружественные чувства мешались с явным недоверием и настороженностью.
Ему приходилось переламывать настроение зала.
«Но когда дело дошло до признания Дмитрия Карамазова, всё разом переменилось. Публика замерла. Болезненная глубина чувства этого сладострастника была так художественно-правдиво передана автором, что я ничего подобного не слыхивал. Манера читать прозу, стихи (в этой сцене Дмитрий декламирует Шиллера и Гёте. – И.В.)… трепет голосового органа… какая-то характерная торопливость на самом драматическом месте – неподражаемы»[177].
Это пишет тот же Садовников. Он лишь передаёт общее ощущение, подтверждаемое и другими слушателями: «Не я одна – весь зал был взволнован. Я помню, как нервно вздрагивал и вздыхал сидевший подле меня незнакомый мне молодой человек, как он краснел и бледнел, судорожно встряхивая головой и сжимая пальцы, как бы с трудом удерживая их от невольных рукоплесканий».
Рукоплескания всё же загремели – ещё до конца чтения. Они «как будто разбудили Достоевского. Он вздрогнул и с минуту неподвижно оставался на месте, не отрывая глаз от рукописи. Но рукоплескания становились всё громче, всё продолжительнее. Тогда он поднялся… и, сделав общий поклон, опять стал читать»[178].
«Такого чтения я не слышал никогда, ни прежде, ни потом, – говорит ещё один очевидец. – Это было не чтение, не актёрская игра, а сама жизнь, – больной эпилептический бред»[179]. (Кажется, в первый и последний раз та самая формула («эпилептический бред»), которую без зазрения совести прилагали к автору «Карамазовых» желавшие обругать его критики, употреблена в качестве комплимента.)
Теперь А. П. Философова уже не жалела, что он не исполнил её просьбы. «Боже, как у меня билось сердце… Я думаю, и все замерли… Мы все рыдали, все были преисполнены каким-то нравственным восторгом. Всю ночь я не могла заснуть и, когда на другой день пришёл Фёдор Михайлович, так и бросилась к нему на шею и горько заплакала.
– Хорошо было? – спрашивает он растроганным голосом. – И мне было хорошо, – добавил он»[180].
Это была победа. Новый роман, только начатый, ещё «дымящийся», получал первое признание.
«Когда он кончил, – пишет К. П. Ободовский, – все были ошеломлены. С полминуты длилось молчание, и затем гром аплодисментов, не смолкавший 1/4 часа, потряс залу»[181].
Его вызывали пять раз.
Чему радовался Страхов?
В чём же причины этого небывалого успеха? В личности ли самого чтеца, которая, конечно, оказывала колоссальное воздействие на аудиторию, в художественных ли достоинствах произносимого вслух текста или ещё в чём-то неназванном, но смутно сознаваемом? Разумеется, эстетический эффект был сам по себе достаточно впечатляющ. Но, видимо, не только он решал дело. В конце концов, у Достоевского были и другие романы – со страницами не менее сильными, и он читал их с эстрады, но никогда прежде не добивался ничего подобного.
«В нашей вялой форменной жизни, – писал «Голос», – так редки выражения общественных чувств и общественной мысли, что те овации, которые происходили вчера на этом вечере, казались чем-то необычайным. Они производили освежающее впечатление…»[182]
Дело было во времени.
Отзывчивая ко всякому духовному движению русская публика 1879 года чутко улавливала в бытовых и любовных линиях нового романа тот самый подспудный «мировой» смысл, который входил в плоть и кровь поколения, в состав самой жизни, споткнувшейся в своём мерном течении и поставившей, как любил говорить Достоевский, вопрос «у стены»: что дальше? «И вдруг, – пишет Тимофеева, – всё в нас чудодейственно изменилось: мы вдруг почувствовали, что не только не надо нам «погодить», но именно нельзя медлить ни на минуту…»[183]