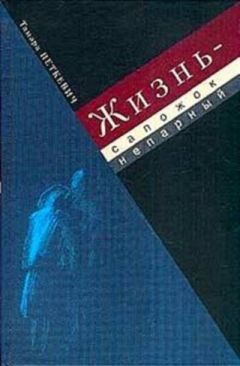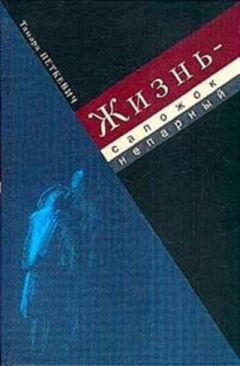— Не надо!
И ушла.
Отказу от комсомольского билета ужаснулись все — и взрослые, и ровесники. Меня хором назвали глупой, слишком гордой, «с фанабериями». Особенную боль причинило «логическое» умозаключение: «Значит, правильно исключили».
С того момента, видимо, на меня было заведено особое «досье».
Ведомая одними эмоциями, из всех сложностей я выходила на своевольные ориентиры. Только согласие собственных чувств с поступком давало ощущение правоты и свободы, устанавливало тот режим мироощущений, который многое определил и в дальнейшем.
Мой приработок, приобщенный к деньгам от продажи вещей, был недостаточен для содержания семьи из пяти человек (бабушка тогда еще жила с нами).
Выручила случайность. В период папиной периферийной службы мама сдавала комнату семье Д. После ареста папы комната осталась за ними. В разговоре с мамой они делились намерением обучить свою старшую дочь, мою ровесницу, росписи тканей. Есть-де у них приятельница, которая за плату обучает этому выгодному ремеслу. Навестив их, эта знакомая постучала к нам в дверь:
— Разрешите позвонить от вас по телефону?
На плечах у зеленоглазой эффектной женщины была накинута косынка с необычайно смелой цветовой раскадровкой: от туманно-красноватого, оранжево-желтого цветов через болотный она уярчалась до буйно-зеленого. Я загляделась. Она неожиданно предложила:
— Давайте я вас, Тамарочка, научу рисовать батиком?
Мы с мамой поблагодарили и отказались.
— Бесплатно, конечно, — угадав причину отказа, тут же прибавила она.
Так запросто участие и насущная помощь вошли тогда в наш дом. Как призналась потом сама Елизавета Егоровна (так звали эту художницу, впоследствии моего друга), интерес ко мне пробудился у нее «от противного». Семья Д., рассказав ей про наши обстоятельства, охарактеризовала меня как личность малоинтересную, заурядную, в чем были совершенно правы. Я не являла миру ни дарований, ни человеческой законченности, а представляла собой бесформенный моток фантазий и чувств. Итак, прежде урока мастерства росписи тканей я получила от Елизаветы Егоровны или, как ее называли «бель Лили», прекрасный урок — искать в человеке лучшее и обратное тому, что о нем бывает сказано.
Первое время я работала как подсобница у нее на дому. Работая в артели, Лили брала и частные заказы. Среди ее клиентов были известные ленинградские балерины и ленинградские модницы. На однотонный или тускло расцвеченный отрез заказчицы она наносила затейливый узор, превращая ткань в яркое многоцветье. Думаю, что непринужденная обстановка этих рисовальных уроков и возгоревшаяся дружба между тридцатилетней художницей и мною помогли развиться во мне импровизационному началу. Я увлеклась росписью на ткани и не раз бывала смущена похвалами своей наставницы.
Позже у меня в артели приняли экзамен, и я стала самостоятельной надомницей. Привезла из артели подрамники, резиновый клей, анилиновые краски, парашютный шелк, который тогда выдавали для росписи продукции — дамских косынок, и «гнала» заказы. Новым промыслом увлеклась и моя сестренка Валечка, став моей верной помощницей, немало подвигая меня к поиску новых композиции своим наивным восхищением. Заработок действительно оказался более чем приличным, и мы стали «оборачиваться». Дома все делали сами. И как будто установилась некая норма жизни и быта семьи. Мы начали верить, что справимся, сумеем прожить.
Близились выпускные экзамены. Лили распорядилась, чтобы мы купили самый дешевый материал — лионез, натянула его на подрамник, разрисовала. Мама отыскала кусочек черного бархата, и платье для выпускного вечера было создано.
Это я так раньше думала, что не прощу «леса рук» за мое исключение из комсомола. Но свойства юности внесли поправки в отношения с одноклассниками. Меня признавали одной из самых красивых девочек в школе, стремления к дружбе тоже нельзя было искоренить, и к выпуску я позабыла обиды. Нас всех ждала новая жизнь, в испуге и радостных ожиданиях растворилось все преходящее.
За столом у моей тарелки лежал стих:
Тамара сегодня докажет собой,
Что розы цветут в нашем крае зимой!
Не надо было гадать, кем он был написан. Ильюша Грановский отвел меня к окну, за которым звенели трамваи, сказать, что следующее утро для него будет самым злым, потому что не надо идти в школу, а следовательно, ждать встречи со мной.
— Ты ведь не захочешь видеть меня без школы? Скажи!
Другой мальчик следил ревнивыми глазами. Третий уже шел приглашать танцевать.
Учителя после раздачи дипломов с неучительской интонацией желали нам удачи и счастья. Педагог по литературе Гильбо декламировал: «Было двенадцать разбойников, был Кудеяр-атаман…» Мы как будто впервые видели его. Казалось, вовсе его не знали. И когда через много лет стало известно, что он одним из первых погиб в блокадном Ленинграде, вспоминали его именно таким — озорным и неожиданным. Строгая математичка утратила свою неприступность, а очаровательная физичка высказала вдруг уверенность, что «первой замуж выйдет, конечно, Тамара». Оказалось, что это было общей уверенностью. У меня это вызвало глубочайшее недоумение и обиду.
Вечер этот, с веселыми и печальными словами, вальсами и польками, объяснениями и растерянностью, не до конца понятной виной и благодарностью друг к другу, жизнь отложила в неприкосновенности и неповторимости на долгие десятилетия для тех, кто остался из нас в живых.
Все спрашивали: «В какой институт пойдешь?» Я хотела держать экзамен в институт иностранных языков на английский факультет. Прельщали перспективы литературных переводов. Никак не лежала душа к преподавательской деятельности, а реально институт сулил последнее.
С мамой мы все обсудили. Она не возражала. Днем — учиться, вечером — работать. Стипендия и приработок. Должны были обойтись. Я сдала экзамены в 1-й Государственный институт иностранных языков.
Дортуары прежнего Института благородных девиц источали романтический дух, хранили эхо тайн и стонов давних сверстниц. Я была влюблена в здание института, в сад, выходящий на Неву, в его полуразвалившуюся каменную стену, в прелестных девушек, сдававших со мной экзамены, в факт приобщения к студенческому сословию, даже в трамвайную линию к институту — через Дворцовый мост, где только успевай рассмотреть, какого цвета небо над Петропавловской крепостью, над Зимним дворцом, тускло или ярко отсвечивает шпиль Адмиралтейства. Мне было восемнадцать лет. Вопреки всему, я попросту безумно влюблялась в жизнь и снова ей верила. О-о! Мое будущее будет прекрасным! Бессовестно-победно, не усмиренный несчастьем, бил в глубине источник жизни, ни названия, ни силы которого я не ведала.