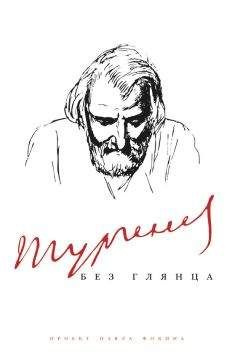Екатерина Сергеевна Герцог:
‹…› Характер у него был нелегкий, с большими странностями, которые нередко бывают у людей, отдающих большую часть времени науке и труду, или у одиноких людей, не привыкших к заботам других о себе. Но кто знал его близко, прощал ему эти странности.
Евгений Александрович Бобров (1867–1933), философ, публицист, сослуживец А. Л. Блока по Варшавскому университету:
Я хорошо знал покойного Александра Львовича Блока. Познакомился я с ним после моего переезда в Варшаву. ‹…› Среди многолюдного и шумного города он жил своеобразным отшельником. ‹…› Я, ввиду трудности проникать к Блоку, часто приглашал его к себе. Мы проводили с ним целые вечера в беседах на самые разнообразные темы. Он познакомил меня как со своей биографией, так и со своими взглядами. Особенно горько он рассказывал о тех притеснениях, какие ему суждено было испытать в Варшавском университете и от начальства, и от студентов, и от товарищей-профессоров. ‹…›
Недоразумения со студентами проистекали из двух источников. С одной стороны, он не сходился с поляками на национальной почве; будучи славянофилом и государственником, он отнюдь не сочувствовал польским революционным стремлениям. С другой стороны, он доводил студентов до исступления своею невозможной манерой экзаменовать, спрашивая каждого не менее получаса, а иногда даже от часа до полутора. Происходили дикие сцены. Студенты в истерике начинали кричать, бросали литографированный курс к ногам экзаменатора. Сам Блок показывал мне ругательные письма с наклеенной раздавленной молью. Текст гласил, что, подобно этой моли, будет раздавлена моль в образе профессора Блока. Эти выходки принимались им с несокрушимым видимым спокойствием и неуторопленной речью (Блок немного заикался). Начальство, отчасти ввиду постоянных скандалов со студентами, отчасти же в силу его самостоятельности, не давало ему ходу, чуть ли не 20 лет выдерживало без повышения, в звании экстраординарного профессора, в то время, как разные ничтожества, не стоившие и пальца Блока, награждались деньгами, чинами, орденами, играли первые роли. Гордость, нелюдимость Блока, его постоянная погруженность в какие-то думы мешали ему сходиться с большинством товарищей-профессоров.
По наружности он был высокий, очень худощавый, сутуловатый, несомненно еврейского, благородного типа мыслителя и пророка (о чем он мыслил, будет речь дальше), но к особо скорой дружбе ни внешность Блока, ни его манера говорить и относиться к собеседнику – не располагали; невольно чувствовалась огромная самостоятельность мысли и большая гордость.
Мне посчастливилось довольно скоро сблизиться с ним, что, вероятно, отчасти объяснялось философией, которой Блок любил заниматься. Блок чувствовал везде и всегда себя одиноким, но этого одиночества не боялся. Близких отношений с молодежью он не искал, однако у него было некоторое количество верных и чрезвычайно преданных ему учеников ‹…›. Однако ни один из них, питая глубочайшую благодарность к своему учителю за его научное воспитание, не перенял для себя его специфической философии; каждый из них пошел своей особой дорогой. Курс лекций Блока был единственным в России, ибо нигде в русских университетах, кроме Варшавского, не читалось государственное право европейских держав, а преподавалось одно только русское государственное право. Блок же выработал, можно сказать, философию государственного права. Эта философия чрезвычайно трудно давалась студентам; некоторые места вообще среди этих лекций оставались для них непостижимыми, и такие места они называли сфинксами, Блоковскими сфинксами. Правда, нужно сказать, что Блок отдавал в литографию текст окончательно составленный и редактированный им самим, причем каждый год этот текст перерабатывался заново. Вдобавок лекции одновременно выходили в двух изданиях, одно для поляков, другое для русских студентов.
Екатерина Сергеевна Герцог:
В частной жизни А. Л. был глубоко интересным человеком. Для нас – молодежи – он был книгой неисчерпаемого интереса. Мы постоянно закидывали его всякими отвлеченными вопросами и всегда получали подробное объяснение, историческую справку или филологическое пояснение на всех европейских языках, которые он знал в совершенстве. Я уже не говорю об его знании истории, литературы и музыки.
Когда, случалось, удивлялись его многостороннему образованию, он всегда отшучивался или говорил:
– Если человек способен оценить многостороннее образование другого, то каким же образованным должен быть он сам! У моего отца и у А. Л. была изумительная память. Они часами читали поэтов наизусть, начиная с Державина.
Особенно же часто повторяли «Евгения Онегина» – целиком, наизусть – с любой строфы.
В то время А. Л. жил одиноко (на Кошиковой ул.), весь уходя в книги и работу. С его слов мы знали, что он был женат два раза и имел от первой жены сына, а от второй – дочь. Портрет дочери стоял всегда перед ним среди хаоса книг, газет и вещей, и был большим трогательным контрастом веночек из цветов на портрете.
Евгений Александрович Бобров:
Внешняя скромность Блока, происходившая от чрезвычайной гордости, в конце концов привела к тому, что много новых профессоров, не знавших, что такое Блок, ввиду его молчаливости на собраниях и советах начинали считать его жалким ничтожеством, которому и нечего сказать. Тому же способствовала и крайне жалкая одежда, в которую облекался мыслитель. Вечный черный сюртук и черные брюки насчитывали, конечно, не один десяток лет существования. Все на нем было вытерто, засалено, перештопано. Проистекало это не из материальной нужды, а из чисто плюшкинской жадности и скупости. После смерти его в его квартире найдено было денег в различных видах (медью, серебром, золотом, бумажками, билетами, облигациями) свыше 80 000 руб. Он никогда не позволял убирать своей квартиры, никогда в течение десятков лет ее не отапливал, не выставлял рам, питался в высшей степени экономно и, по заключению врачей, этим недостаточным питанием сам вогнал себя в неизлечимую чахотку и уготовил себе преждевременную смерть на почве истощения. Он даже экономил на освещении квартиры. По вечерам он выходил на общую площадку лестницы, где горел даровой хозяйский газовый рожок, и читал, стоя, при этом свете или шел куда-нибудь в дешевую извозчичью харчевню, брал за пятак стакан чаю и сидел за ним весь вечер в даровом тепле и при даровом свете. Знавшие эти странности и слабости Блока и любившие его за его выдающиеся способности охотно приглашали его к себе в гости, немного подкармливали, угощая обедом, чаем, ужином. У Блока было все-таки несколько знакомых семейств, которые он посещал, куда он ходил охотно, будучи убежден в добром к нему расположении. Было у него несколько друзей женщин (особенно помнится мне жена суд-инспектора Крылова), которые, приглашая его к себе, угощая его, брали на себя заботу тут же, во время чая, собственноручно шить и штопать знаменитый сюртук, совлекая его с плеч мыслителя.