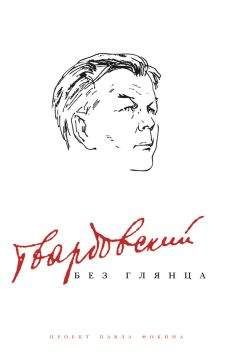«14.II.1955
Жить для меня значит – сочинять, „копать“, продвигаться так ли, сяк ли дальше, оставляя какой-то кое-как хотя бы взрытый след. Но как только все это перебазируется в голову, в ночные горькие думы, в дневные пустопорожние разговоры под стопку или так, тут наступает беда бедущая.
Относит и относит тебя куда-то в мерзость бездеятельного мысле-и-словоблудия, в „бродяжество“, за которым только конец – и конец постыдный, мучительный, разрушающий тебя еще заранее своей неизбежностью, своим ужасом». [9, VII; 155]
Юрий Валентинович Трифонов:
«Горе Александра Трифоновича, горе близких ему людей и всех, кто любил его, заключалось в вековом российском злосчастии: многодневном питии. ‹…› Дачники Красной Пахры тщеславились перед знакомыми: „Заходил ко мне на днях Твардовский… Вчера был Александр Трифонович, часа три сидел…“ Господи, да зачем заходит? И с тобой ли, дураком, сидел три часа или же с тем, что на столе стояло? Один дачник, непьющий, признался мне, что всегда вписывает в продуктовый заказ бутылку „столичной“. „Для Трифоныча“.
– А ты не заказываешь? Напрасно, напрасно. Всегда должна быть бутылочка в холодильнике…
У меня такого распорядка не было и быть не могло, ибо никак я не мог для себя решить: что правильно? Раздувать пожар или пытаться гасить? Правильней, конечно, было второе, да только средств для этого правильного ни у меня, ни у кого бы то ни было недоставало. Пожар сей гасился сам собой, течением дней. Мария Илларионовна однажды сказала: „Он все равно найдет. Уж лучше пусть у вас, и мне спокойней“. И верно, находил – хоть на фабрике, хоть в деревне. Были знакомцы по этой части, специалисты по „нахождению“ в любой час, на рассвете, в полночь…» [13; 22]
Маргарита Иосифовна Алигер:
«Видывала я его и в подпитии, и тут он бывал очень разным. То очаровательным, оживленным, искрящимся, прелестно разыгрывающим роль гуляки и бретера.
– Первый поэт республики у ваших ног! – шумел он, изображая ухаживание за женщиной.
А то он бывал мрачным, угрюмым, тяжелым, угнетенным…» [2; 406]
Александр Трифонович Твардовский. Из дневника:
«12.ХII.1961. М[оск]ва. 5 ч. утра
Месяц этот подковеркан неудачной попыткой притихнуть в Малеевке. После напряжения съездовских дней и всего последующего выезд в эту обитель моей трудной юности и приют в иные годы („Дали“) оказался неудачным: приехал уже туда хорошеньким, встретил Смелякова, – этого лишь и не хватало, а там началось и не веселье вовсе, а мука и унизительные экскурсии в поисках чего-нибудь, вплоть до некоего „волжского“. Словом, приехала М[ария] И[лларионовна], и на другой день мы вместе уехали в Москву, – я уже больным, в сущности, и день за днем в Москве откладывалось возвращение, а следом нарастал стыд, страх, мука». [11, I; 67]
Владимир Яковлевич Лакшин. Из дневника:
«20.XI.1956
А. Т. щепетилен, спрашивал: „А вам в университет не идти? У меня правило: если выпиваешь-закусываешь – уже на людях не показывайся“». [5; 22]
Александр Трифонович Твардовский. Из дневника:
«4.III.1962. Барвиха
Снова здесь, в обители моих душевных покаяний, порывистых усилий труда и приобщения к современной „элите“, которой бы я без того не знал никогда так. ‹…›
В который же я уже здесь раз? М. б., уже в 10-й. ‹…›
И вряд ли был здесь я хоть раз без предшествующего „потрясения“, дней полного уныния и затем быстрого подъема душевных и физических сил. На этот раз, хоть я и приехал уже без „остаточных явлений“, вполне уже физически высвободившись от „потрясения“, но оно еще тяготеет над моей памятью кошмаром стыдобы, омерзения, бессильного и отчасти уже легкомысленного раскаяния. Записывать это не следует, достаточно того, что это наверняка записано бедным К. А. Фединым, который так наверняка рассчитывал на мое выступление на его 70-летии и желал его, а также, м. б., милой старушкой, моей соседкой снизу (2-й этаж) в корпусе „ВК“ – Фаиной Георгиевной Раневской, которая помогала Маше доставить мои 90 кило с гаком этажом выше (Сац воткнул меня в лифт и бежал, естественно, в силу сложившихся отношений с М. И., да и сам был, наверное, хорош, а я, видимо, нажал лишь вторую кнопку и, выйдя на площадку, расположился там на отдых). Все это, конечно, мне известно только со слов М. И., не помню ничего – и в этом ужас». [11, I; 71–72]
Александр Исаевич Солженицын:
«‹…› Из самого беспросветного тупика, напряжения, обиды издательской работы он мог на две, на три недели, а в этот раз и на два месяца выйти по немыслимой алкогольной оси координат в мир, не существующий для его сотрудников-служащих, а для него вполне реальный, и оттуда вернуться хоть с телом больным, но с отдохнувшей душой». [7, 109]
Александр Трифонович Твардовский. Из дневника:
«Все не соберусь записать, как я с годами стал любить, вернее – ценить сон, отдых, постель, когда спится. Что-то есть у Т. Манна об этом очень умственное и изящно-основательное – вроде того, что человек в постели как бы обретает тепло и покой, какими он пользовался в утробе матери, и даже любит принимать позы, скрючиваться, как зародыш. Но еще больше я люблю утреннюю свежесть, ясность головы, охоту жить. И боюсь, просто содрогаюсь от одного представления о тех моих пробуждениях, когда ни лежать, ни встать не мило, и все же встаешь, спеша и одеваясь наскоро, чтобы не лежать, а с отчаяния дернуть куда-нибудь из дому, где единственная душа живая, не прощающая тебя и сама страдающая, спит честным сном усталого, заслужившего отдых человека, – дернуть в дальнейшее наращивание беды и отчаяния пополам с короткими „отпусками“ облегчения и болезненного оживления». [11, I; 338]
Александр Трифонович Твардовский. Из «Автобиографии»:
«Стихи писать я начал до овладения первоначальной грамотой. Хорошо помню, что первое мое стихотворение, обличающее моих сверстников, разорителей птичьих гнезд, я пытался записать, еще не зная всех букв алфавита и, конечно, не имея понятия о правилах стихосложения. Там не было ни лада, ни ряда – ничего от стиха, но я отлично помню, что было страстное, горячее до сердцебиения желание всего этого – и лада, и ряда, и музыки, – желание родить их на свет, и немедленно, – чувство, сопутствующее и доныне всякому новому замыслу». [8, I; 7]