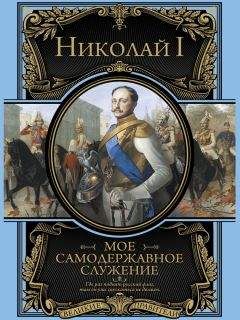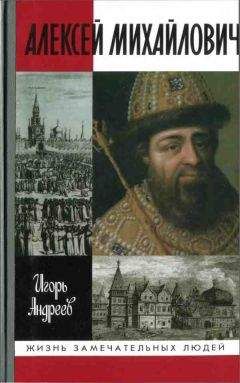В глазах остальных пусть будет, как вы хотите, – но между нами не может и не должно быть иначе. Поэтому, ради Бога, пощадите меня в другой раз, и, если я буду иметь несчастие сделать что-нибудь, конечно без умысла, что вы могли бы дурно истолковать, пожалуйста, скажите мне совершенно откровенно; я вам отвечу на это с тою же откровенностью, к какой привык всегда в отношении к вам.
…Здесь все благополучно; нет больше ни слухов, ни каких-либо глупостей. Я очень доволен войсками, исключая некоторых пустяков. Михаил преуспевает и, без всякого сомнения, достигнет хороших результатов. Гражданские дела подвигаются; я ими теперь более доволен: работа идет ровнее и скорее, улучшения же придут потом, когда мы узнаем, что делать.
Главное то, что вот уже год прошел и какой год, и ничто не переменилось, даже лица, за исключением одного, которое настолько злоупотребило доверием нашего Ангела, что напечатало его собственноручные письма для раздачи своим друзьям. При первой возможности вам будет вручен экземпляр его публикации.
Константин Павлович – Николаю I[109]Варшава, 14 (26) января 1827 года
Поручаю барону Моренгейму передать вам это письмо, дорогой брат, а также отвезти вам доклад Следственного Комитета, учрежденного здесь по вашему приказанию и окончившего свои труды. К докладу приложены подлинные акты, которые составляют, так сказать, целую библиотеку.
Если здешнее следствие тянулось больше петербургского, причина не в недостатке усердия и преданности делу – члены комитета выказывали их постоянно в своих расследованиях фактов и лиц, – но в самом существе дела, потому что здесь нет явных преступных действий, которые дали бы возможность, отчасти или вполне, обнаружить виновных. Здесь следствие было предпринято лишь на основании слухов и подозрений.
Я далек от того, чтобы преуменьшать факты или их извинять, но могу смело сказать, что от планов русских, которые начали уже отчасти приводиться в исполнение, далеко до планов поляков, которые, как они ни виновны и ни преступны, уже в своем положении всегда найдут извинение в глазах мыслящих людей всех веков.
Благоволите дать аудиенцию барону Моренгейму и выслушать то, что он будет иметь честь представить на ваше усмотрение:
1) относительно самого следствия,
2) относительно формы суда и его процедуры,
3) относительно церемонии коронации.
Теперь же я позволю себе заметить раз навсегда следующее:
1) Я не вмешивался в следствие: собрав Комитет, я в нем больше не появлялся, ибо противно всякой справедливости, всем понятиям для человека чести быть судьей и держать сторону в собственном деле; все же козни обвиняемых были направлены, как утверждали, прямо против императорской фамилии и меня, в частности, – что, впрочем, не удалось доказать.
2) Я только следовал предположениям Комитета относительно освобождения, отпуска или пересылки обвиняемых, равно как их ареста и их разделения на разряды.
Вот отчет о моем поведении. В общем, если его рассмотреть и судить беспристрастно, я надеюсь, за мною будет признана и лояльность, и прямота.
Не желая отнимать у вас времени больше, чем нужно для этого доклада, от занятий более важных, я кончаю свое письмо, прося вас верить в одушевляющие меня неизменную преданность и усердие к вашей службе и к вашей особе, с которыми не перестану быть вам вернейший брат и друг
КонстантинКонстантину Павловичу[110]С.-Петербург, 26 января (7 февраля) 1827 года
Третьего дня утром Моренгейм передал мне ваше письмо, дорогой Константин, так же как и все бумаги, которые вы благоволили поручить ему для меня. Прежде всего благоволите принять мою благодарность за те слова, в которых вы мне сообщаете ваше понимание следствия, мною вполне разделяемое.
Когда станут известны все предосторожности и заботы, приложенные вами для освещения малейших сомнений и подозрений, всякий беспристрастный человек воздаст только полную справедливость тому поведению, какого вы держались. Я уверен, что наш дорогой Ангел был бы удовлетворен вашим осторожным образом действий в этом деле.
Третьего дня и вчера у меня хватило времени закончить чтение одного только следствия; завтра я буду продолжать чтение других бумаг; я не могу подвигаться скорее ввиду моей остальной работы. Моренгейм расскажет вам о моих немногих замечаниях, на которые он дал мне объяснения.
Подсудимые начинают прибывать сюда; предполагаю, что некоторые будут необходимы для процесса поляков, и я поручил Моренгейму отметить тех, кого он сочтет нужным для очных ставок и которых придется на время отослать вам обратно.
Записки императора Николая I о вступлении на престол[111]
Часто собирался я положить на бумагу краткое повествование тех странных обстоятельств, которые ознаменовали время кончины покойного моего благодетеля императора Александра и мое вступление на степень, к которой столь мало вели меня и склонности и желания мои; степень, на которую я никогда не готовился и, напротив, всегда со страхом взирал, глядя на тягость бремени, лежавшего на благодетеле моем, коему посвящено было все его время, все его познания и за которое столь мало стяжал благодарности, по крайней мере при жизни своей!
Меня удерживало чувство, которое и теперь с трудом превозмогаю, – боязнь быть дурно понятым. Я пишу не для света – пишу для детей своих; желаю, чтоб до них дошло в настоящем виде то, чему был я свидетель. Решаюсь на сие для того, что испытываю уже после шести лет, сколь время изглаживает истину и память таких дел и обстоятельств, кои важны, ибо дают настоящее объяснение причинам или поводам происшествий, от коих зависит участь, даже жизнь людей, более, честь их, скажу даже – участь царств.
Буду говорить, как сам видел, чувствовал – от чистого сердца, от прямой души: иного языка не знаю.
1
Лишившись отца, остался я невступно[112] пяти лет; покойная моя родительница, как нежнейшая мать, пеклась о нас двух с братом Михаилом Павловичем, не щадя ничего, дабы дать нам воспитание, по ее убеждению, совершенное. Мы поручены были как главному нашему наставнику генералу графу Ламздорфу, человеку, пользовавшемуся всем доверием матушки; но, кроме его, находились при нас 6 других наставников, кои, дежуря посуточно при нас и сменяясь попеременно у нас обоих, носили звание кавалеров.
Сей порядок имел последствием, что из них иного мы любили, другого нет, но ни который без исключения не пользовался нашей доверенностью, и наши отношения к ним были более основаны на страхе или большей или меньшей смелости. Граф Ламздорф умел вселить в нас одно чувство – страх, и такой страх и уверение в его всемогуществе, что лицо матушки было для нас второе в степени важности понятий.