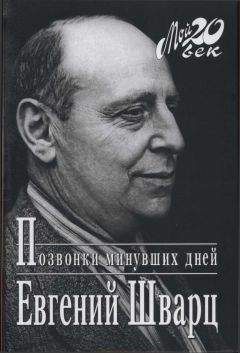Иной раз, возвращаясь от моей безжалостной подруги, я испытывал чувство, похожее на то, которое пережил после разговора с дураком Захаром. Иной раз гордился тем, что у меня есть любовница. Но и в том и другом случае я презирал ее. Я, не признаваясь себе в этом, считал ее ужасным, осужденным, чужого мира существом. Тем самым вполне пригодным для того, что мы с ней делали. Жалко только, что я боялся ее. И не понимал. Однажды она потребовала: «Скажи мне Нюта! Строже! Как собаке!» Но, увы, мне это не удалось. И она посмеялась надо мной своим низким, почти мужским хохотом. Так же смешил я ее в самые неожиданные минуты, в самые неподходящие, как раз в такие, когда я был уверен, что я взрослый мужчина. Она была развращена моими взрослыми предшественниками. И не верила ни во что. И как я уставал с ней, как опустошила она меня. И как тянуло меня в душные, пахнущие пудрой знакомые комнаты с качалкой и диваном. Однажды мама заставила меня идти с ней по магазинам, и я пропустил свидание. «Почему не пришел?» — спросила Анна на другой день строго. «Мама не пустила», — ответил я. Боже мой, как смеялась она по этому случаю. Связь эта продолжалась недели три. И я сказал Анне Павловне, что мы завтра уезжаем. Она долго на меня глядела. Потом сказала: «Нет, не жалко мне тебя. Я к тебе не привыкла, слава богу. Поплясала, да и будет». Я тоже был слишком ошеломлен, да, пожалуй, и слишком утомлен тем, что произошло, для того чтобы горевать о разлуке. Я оглянулся, уходя. Дом стоял в зелени, ставни были прикрыты, никто не вышел на крыльцо и не поглядел мне вслед. И больше никогда в жизни не видел я ее.
До сих пор не знаю, хорошо или худо, что я встретился с Анной Павловной. Если бы все ограничилось самой первой встречей, той, что кончилась слезами, было бы здоровее. Проснулась бы страсть, и всё тут. Но она разбудила, умышленно разбудила во мне чувственность. И то, что я считал первую свою возлюбленную существом грязным, на всю жизнь провело резкую черту между влюбленностью и сожительством. Уж слишком она была не наша. Когда она хотела быть ласковой, то говорила в нос: «Ах ты мой Евгеша, мой паж». И немедленно слово «паж» настраивало ее игриво, и она непристойно переиначивала его. Она, взрослая дама! И каждый раз, как дура, каждую встречу. Кто она была? Мужняя жена? Откуда? Не знаю. И ни разу не испытал желания узнать. Ничего человеческого не было в наших отношениях. Когда‑то я считал эту встречу ужасной и роковой, а теперь сомневаюсь в этом. Черта, которая была проведена, усилила мой дар — влюбляться. Я был не прост. Стал еще сложнее, но это не было страшно. Единственный, несомненный вред — это то, что уверенности в себе эта связь не дала мне. То, что моя грубоватая возлюбленная так часто смеялась надо мной, уверило меня в том, что я этого заслуживаю. Но, с другой стороны, я запомнил навеки, что смеялась она не всегда. Нет, далеко не всегда. Вот и это удалось рассказать мне. Ничего не пропустив, кроме самых невозможных подробностей. И я простился… с Анной Павловной. И с Коробьиными. И извозчик отвез нас на станцию дилижансов — мама не хотела ехать морем. И мы уселись на длинной линейке под плоским тентом…
До Адлера от Сочи тридцать верст. Вскоре за Хостой шоссе отошло от моря, побежало между садами и кукурузными полями. Вот мы спустились в плоскую долину с пирамидальными тополями. Шоссе побежало среди кустов ажины. И я обратил внимание на то, что с правой стороны, со стороны, обращенной к морю, листья все покрыты пылью, а с левой стороны чисты. Я сказал об этом маме, и спутники наши, абхазцы, объяснили, что днем ветер дует в море, а ночью с моря. Днем ездят, поднимают пыль, а ночью не ездят, отчего кусты на левой стороне дороги чисты. Снова дорога вышла к морю. Оно синело за кустами, за тополями. Показались белые стены Адлера. Абхазцы наши по дороге все пели. Запевал один, остальные подхватывали многоголосый припев. Думаю, что многое в этой песне сочинялось на ходу — абхазцы часто разражались хохотом, услышав, что спел запевала. О пребывании нашем в Адлере помню только, что купили мы там четверть денатурата в той самой аптеке, что имела такой домашний вид, и я с удивлением узнал, что этот спирт умышленно отравляют, чтобы его не пили. Утром пришел к нам в гостиницу знакомый сумрачный грек. Так как нас было недостаточно для целой брички, то с нами поехал попутчик — фатоватый человек с пышными усами. Узнав, что папа доктор и приедет в Красную Поляну, он сообщил, что страдает хронической малярией и хочет вспрыснуть себе 606. Он собирался попросить об этом Левшина, а папа пусть ему ассистирует. Но либо он раздумал делать себе вспрыскивание, либо Левшину не понадобился ассистент, только он не приходил к нам в Красной Поляне. Грек добросовестно показал нам провал и самшитовый лес, и свозил нас к «источнику Елочки», и показал тоненький лом, торчащий на страшной высоте…
Жить мне в Красной Поляне поначалу было легко. Исчезло беспокойство и томление, которое мучило меня в первые дни в Сочи. И я отдыхал после всех потрясений последних недель. Я узнал, что учитель местной школы дает приезжим книги из своей библиотеки, и пошел к нему. И он разрешил мне пользоваться его библиотекой. Это были, главным образом, приложения к «Ниве». И я стал читать Шеллера — Михайлова, а потом Станюковича. Романы. Чтение совсем успокоило меня. Вторжение Анны Панталоновны в мою жизнь не так уж все перевернуло, как мне казалось. По страницам романов и по улицам Красной Поляны ходили дамы, лишенные непонятно — греховных свойств, с которыми я так неожиданно познакомился. Они влюблялись и даже разводились и уходили к другому мужчине, чтобы работать с ним вместе. Легкомысленно относились к любви люди осужденные, богатые, черносотенные, не нашего мира. С книгой уходил я на Мзымту, на скалу, к самодельному мостику или к «санаторному источнику». У этого последнего случилось со мною неприятное приключение. Думая, что я тут один, я стал под журчание источника петь, вернее горланить без слов, как горланят в полном одиночестве. И вдруг, оглянувшись, увидел группу дачников, направляющихся к ручью. Замерев от стыда, я уставился в книжку. Дачники попили воды, похвалили ее удивительный вкус. Самый деликатный из них, с седой бородкой, сказал мне: «Хорошо читается на лоне природы». Я старательно улыбнулся. И целый день не мог забыть всего этого. Итак, все шло тихо и мирно с неделю. А потом силы, пробужденные встречей с Анной Павловной, проснулись, и начались мои мучения.
Теперь полутемная комната со столом, диваном и качалкой вспоминалась, как рай Все, что вызывало в дороге стыд и угрызения совести, теперь представлялось непреодолимо привлекательным. Я ругал себя дураком за то, что чего‑то там стыдился, пугался и не разглядел, не насладился в полной мере тем, что мне открылось. Молочница, передавая мне кувшин с молоком, коснулась моих пальцев, и у меня сразу пересохло во рту, закипела кровь. Мне было четырнадцать лет. (Только три месяца, правда, оставалось до пятнадцати.) Не оформились ни душа, ни сознание. А тут — желание вместо неопределенного томления. Сильное, новое, все время вспыхивающее. Внезапно. Без подготовки. То прикосновение к руке… то шелест платья, то низкий голос, напоминающий сочинскую мою искусительницу. И при этом характерная для меня бездеятельность. Я и думать не смел, несмотря на силу желания, попытаться обнять женщину. Я просто цепенел от одной мысли об этом. Скоро я стал беспокойнее. Новая сила нашла свое место в моей жизни, как‑то уравновесилась. Но я стал на некоторое время еще глупее. И нервнее. Дома я теперь был просто невыносим. Особенно после того, как во сне переживал то, что так ясно представлял себе наяву. Поэтому я уходил в горы с книжкой и то читал, то орал без слов на ходу песни, неведомо что выражающие, то мечтал о славе, о писательской славе, и при этом не сочинял и не придумывал ни одной строчки. И во всех мечтах моих участвовала Милочка. И в мечтах я был почтителен с нею. Она только восхищалась моими успехами.