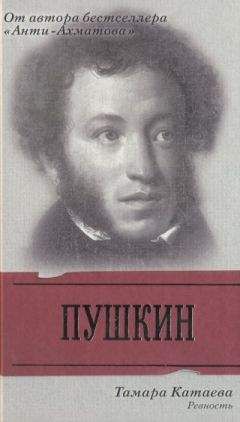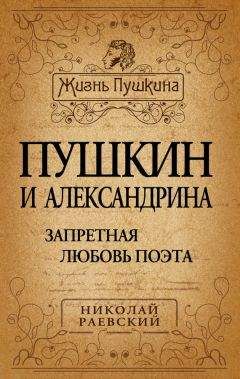ИННА: Любите ль вы Пушкина, так, как я его люблю? Знаю наизусть, это нетрудно. Мама читала в детстве самое трудное, чтобы не понимала. Захочу — буду читать сама, не захочу — СЛОВО уже будет мне проповеданным. Клетки мозга не восстанавливаются, но, покуда живы, они чисто и светло, по порядку, в полной гармонии заполнены Пушкиным. Сейчас кроме прочитывания вдруг, зачем-то, то одного, то другого произведения самое вкусное — ловить какие-то фразы, какие-то реплики, какие-то отрывки из дальних томов. Не очень значимые — наверное, и для него самого, но подтверждающие, что он — жил, что его собрание сочинений — не найдено в пустыне, вздохов над ними, мечтаний, прилаживания ко всему корпусу готового — какая-то бы сфера создалась бы, если б и эти наметки массой стихов и прозы обросли? А хоть и на портрет его посмотреть — мельком, привычно — тоже приятно. Внешность его необычная, непонятная, больше таких не стало, раньше тоже не было, зачем он был задуман таким маленьким и таким черным, разве нечем нас было еще повеселить? Такой вот Пушкин. В родне его бесчисленной найти фамильные черты трудно. Наталья Николаевна — как анатомический атлас, никаких характерных черт, одни астенические вертикали, сбой этот генетический убери — физиономии и не вспомнить.
Пушкин — слишком некрасив, чтобы его черты видеть в дочерях и внучках-красавицах, а мальчики тоже все в матерей. Род был большой, плодовитый, небогатый — а как-то стерся. Да и слишком ярок предок, что б к потомству с какими-то надеждами подступать. Странно видеть их разноязыкую толпу — в каждом сердце должны пушкинские строки биться, а где их взять, если он ни скачки петергофские не описал, ни сдачу Москвы Наполеону, ни старушку-процентщицу, ни вишневый сад? Как это пересказать, как запомнить? Уважить народ-почитатель, конечно, нужно. В какой стране еще ты увидишь цветочки на могилке братика — Шекспира, скажем, буде существовавшего, — умершаго во младенчестве, за тихой церковью в Подмосковье похороненного? Самим Пушкиным едва ли вспоминаемого — а поклониться приятно… Собираются и Пушкины.
ЕКАТЕРИНА: Сколько людей в пушкинском окружении! Сколько подруг, любовниц, возлюбленных, друзей, врагов. Нет друга единственного, нет одной любимой, нет друга сердца. Есть тяжелая артиллерия — есть я, Катишь.
Он примирится со всеми. Жорж — его убийца. Он должен его простить. Пушкин — это Пушкин, он будет в раю, в раю сделают так, что он очистится от всего, от всех грехов. Его заставят простить Жоржа — наверное, это будет нетрудно, раз он уж будет там, не думаю, что ему захочется возвращаться, Жорж будет его проводником в такие замечательные места, и он его с радостью обнимет и поцелует в уста.
Трудней, наверное, будет простить себя — за то, что он и сам стоял с пистолетом. Неужель хотел убить? Только оттого, что тот хотел подсмеяться? Сколько людей насмешничают друг над другом в свете! Не убивать же разом!
Нужно будет все вспомнить по порядку, все свои утра, все скрежеты зубовные, все эти приливы крови к голове, когда представишь, что надо выходить из дома, бежать по городу, заезжать в дома, находить, встречать людей, которым надо будет или рассказывать, или намекать, или бросать реплики, чтобы те передали их дальше, — ни одной минуты в покое, ни одной минуты, предоставленной самому себе. У него будто бы что-то спеклось в голове. Он не мог писать, чистая струя поэзии не перетекала уже через его бесплотный, легкий, восхищающий физический облик и привлекательные привычки, в нем зрело что-то еще гораздо более серьезное, чем было раньше и чем мы ждали от Пушкина. Он должен был бы вступить в другую фазу. Не мне судить. Я умерла молодой, мне до жизни было мало дела, я убила своего брата и убежала со своей родины, я не была любима своим мужем — какой несчастный случай послал его мне! — мне хватило бы робкого петербургского чиновника, а за веселого незнатного преображенца я бы блестящей партией бы вышла — я изо дня в день на чужбине видела своего мужа с человеком, который действительно был ему дорог. Был нужен, был интересен, заполнял его жизнь и с которым тот останется на пятьдесят лет после меня. И будет мужчиной — я буду жить как в стеклянном шаре — все видя и не имея возможности протянуть руку и дотронуться хоть до одного из них. Они — другой расы, они не хотели моих прикосновений, ничего более чуждого, чем я, они около себя больше не имели. Я рожала детей непрерывно и умерла, истощенная этими беременностями и родами. Слово «литература» было для меня той веревкой, которую нельзя употреблять в доме повешенного. Я обрела покой только на небесах. Я там, где сейчас Пушкин.
Но я сделала в своей жизни все, что могла, мне удалось во сто крат больше, чем я могла рассчитывать и чем кто бы то ни было хотел бы мне дать, а убитый мною Пушкин — я из команды убийц — не сделал, я не знаю, какой части, у нас здесь нет мер и весов, но он не сделал главного.
Мы здесь все очень прозорливы, мы видим все в истинном свете, Пушкин для меня здесь не несостоятельный свояк, добрый, неприжимистый, без средств, увлекающийся, не нашедший широты души, чтобы махнуть рукой на свои не по летам щепетильности и юношеские ревнивства, — уж пристроил бы меня да и руки б потер, а — как для всех — Пушкин. Мы здесь тоже все на разных ступеньках сидим.
Когда я готовилась выйти замуж — вернее, я не готовилась, у меня не было шансов — когда моя заскорузлая судьба медленно и ржаво поворачивалась таким концом, с которого я вдруг каким-то ослепительным вихрем была сметена и вброшена совсем в другой круг, — ничего главнее в жизни у меня не было — Пушкин готовился тоже к серьезному перевороту в своей судьбе, писательской, конечно. Муж Наташи — это ведь не главное его предназначение было, верно? Ему в этом никто помочь не мог. В таких вещах пропозиций не делают. Здесь он сам и невеста, и полуночный жених. Он должен был взять сам себя и пребывал в таком же возбуждении и тревоге, как это бывает всегда. У него была и неуверенность в востребованности старой девы — уже не писалось, и нежелание менять комфортных привычек старого холостяка — положение в литературном сообществе было удовлетворительно. Но он был вроде беременной невесты или ожидающего долгожданного первенца отца. Как мой Жорж — к моему ужасу, я рожала ему одних девочек. Сравним их с пушкинским творчеством до последнего года. Оно было прекрасно — был рад и Жорж, им с бароном и тех бы не родить. Но рождение сына, отнявшего у меня жизнь и увенчавшего семейную карьеру Дантеса, — это было что-то особенное. Ожидание такого истинного наследника — нового поворота в пушкинском творчестве — больших, прозаических, великих произведений — очевидно, тоже отняло жизнь у него. Он готовился. Но дали не ему. Пушкина просто убили. Кто, чьей рукой — не важно. Это вообще-то и интересовать должно бы только меня, потому что я каждый день ложилась с его убийцей в кровать и старалась сделать так, чтобы он был всем доволен. Мои дни и вечера, моя гигиена и мои туалеты, мое возбуждение от постоянно кормящего тела и полного плодами чрева — все было направлено на то, чтобы убийца Пушкина насыщался мною не просто, не второпях, не по обязанности, а с самыми утонченными удовольствиями, с самой ненаигранной полнотой, чтобы со мной, сестрой его жертвы, было б забавней, ну или хоть так же забавно и весело, как с серьезным партнером, настоящим его близким человеком — Геккерном. Об этом были заботы всех моих предсмертных лет, этим закончилась моя жизнь.