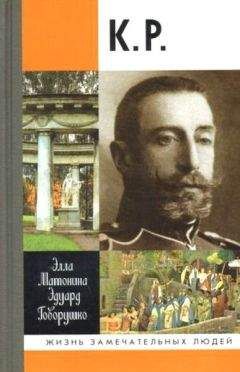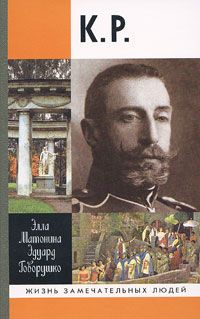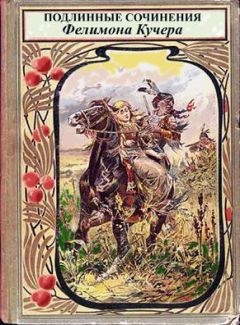«Мало погрешностей…» Их имелось слишком много, но деликатность и доброта Великого князя, как всегда, были безграничны…
В ближайшее время в продаже появились общедоступные издания драмы — рублевые и стоимостью в 75 копеек. Вслед за общедоступными — вышло иллюстрированное, за 4 рубля, а затем роскошное дорогостоящее, с примечаниями и сценами из спектакля.
Большой спрос имели почтовые открытки с героями драмы и сценами из нее.
Естественно, в печати появились и отзывы на издания, в большинстве своем глубокие и развернутые. Один из рецензентов высказал интересную мысль, что «Царь Иудейский» — это не мистерия, а историческая драма, в которой много жизненного, реального, бытового, и потому грандиозное трагическое событие переживается людьми как личное.
Однако лучшим комплиментом критики для Великого князя стало замечание о том, что «Царь Иудейский» напомнил о чистом воздухе пушкинской поры, что вся пьеса — «в тонах пушкинской школы».
Возможно, читая эти строки, Константин Константинович видел перед собой милых его сердцу великих стариков — Гончарова, Фета, Полонского, Майкова, Страхова, а себя — молодым, постигающим у них науку пушкинской школы и мечтающим о романе с вечностью.
* * *
Роберт Юльевич Минкельде вошел в кабинет Великого князя с бумагами:
— Ваше Высочество, на февраль 1914-го драма переведена на французский, немецкий, английский, чешский, румынский, латышский, грузинский и армянский языки. Есть еще заявки на переводы, их число стремительно растет…
— Ну что делать? Подобно тому, как вы разрешили госпоже Парзян перевод на армянский язык, разрешайте переводы на любые языки…[84]
Великий князь понимал, что на общественной сцене его пьесе не бывать, и был благодарен Николаю II, который дал согласие на повторный спектакль в следующем, 1915 году. Но как грустно звучат строки его письма глубоко любимой им молодой актрисе Вере Васильевне Пушкаревой: «Хотелось порадовать вас вестью… что последовало высочайшее соизволение на возобновление „Царя Иудейского“ в Эрмитажном театре. Можно ли было думать… при получении этой приятной вести, что не пройдет и двух недель, как война охватит всю Европу?»…[85]
Несмотря ни на какие события тревожного свойства, и в Германии, и в России стояло дивное лето с перемежающимися грозами, ливнями, солнцем. Пар шел от мощеных тротуаров, над травами в парках висела кисея тумана, и всё цвело, настаивая ароматами теплый влажный воздух. В Германии о неотвратимости войны говорили чаще и увереннее, чем в России. Но в кругу светлого мира летней природы в это не верилось. И вдруг в Германию К. Р. приходит телеграмма от брата Дмитрия, который сообщает о мобилизации.
Константин Константинович в это время лечился в Наугейме, а жена с двумя детьми гостила в Бад-Либенштейне у своей матери. Он немедленно выехал в Бад-Либенштейн, чтобы забрать семью и вернуться в Россию. Это горькое путешествие на всю жизнь запомнила княжна Вера Константиновна.
«В те дни Германия была охвачена военной истерией. Всем чудились русские шпионы и автомобили с русским золотом. Наш автомобиль также был принят за шпионский. На станции, где мы ожидали поезда, кто-то грубо заметил, указывая на брата, что мальчик мог бы, по крайней мере, снять русскую шапку: брат носил матросскую фуражку с надписью „Потешный“.
У русской границы в Эйдткунене поезд остановился. Нам приказали не закрывать окон и дверей вагона. Лишь в отделении детей разрешили затянуть занавески. Мне было тогда восемь лет, брату — одиннадцать. Помню, как нас накормили молоком и черным хлебом. Помню часовых, стоявших у вагона, в остроконечных касках в защитных чехлах и крупной цифрой „33“ на них. Утром нас погрузили в автомобили. Лейтенант Миллер, командовавший нашей охраной, до того весьма вежливый и корректный, вдруг сделался грубым и стал называть мою мать „сударыня“, боясь, видимо, титуловать ее по сану.
Адъютанта отца Сипягина и камердинеров задержали, объявив, что они приедут позже с багажом. Вначале хотели задержать и отца. Однако моя мать решила не покидать его. Была послана телеграмма в Берлин. Насколько я помню, за нас заступилась германская Императрица Августа-Виктория, и нас пропустили.
Из Эйдткунена мы ехали на двух автомобилях. В первом — родители, брат и я, во втором — все остальные. Рядом с шофером сидел солдат с винтовкой. Шторы были спущены, и нам объявили о том, что мы не должны смотреть в окна, иначе будут стрелять. Мы с братом, сидя на передних откидных скамейках, все время старались подсматривать в щели между занавесками, это очень волновало мать.
Неожиданно машина резко остановилась. Дверь распахнулась, и наш часовой испуганным голосом закричал: „Казаки идут!“ Нас немедленно высадили буквально в канаву у обочины шоссе, ведущего к Вержболову. Но адъютанта с камердинерами не было. Нам сказали, что они последуют минут через двадцать. Однако прошло двадцать минут, час, два часа. Машина не показывалась. Мы продолжали ждать. (В итоге Сипягин провел в плену всю войну, а Фокин вернулся в Россию и не мог нести военной службы.) Проехали повозки с беженцами. На другой стороне шоссе, как раз напротив нас, стоявший перед своим домиком крестьянин посоветовал нам поскорее уходить от казаков. Я подумала тогда: „Если бы ты знал, что мы и казаки — одно!“ Показался русский разъезд — два всадника с пиками. На вопросы не отвечали. Когда подошла главная часть, адъютант отца, князь Шаховской, пошел ей навстречу с визитной карточкой отца. С большим недоумением смотрел офицер на эту карточку. Каким образом, вероятно думал он, русский Великий князь мог очутиться в первый день войны в канаве на прусской границе? Однако, взглянув на отца, которого он видел лишь год назад в юнкерском училище, убедился в том, что это действительно он.
В Вержболове на вокзале, который был подожжен начальником станции, мы расположились в царских покоях и стали ждать дальнейшего. Выяснилось, что в Ковно стоял поезд Императрицы Марии Федоровны, которая возвращалась в Россию через Данию, а не через Вержболово, как первоначально предполагалось. По телефону отец снесся с Царским Селом и с Павловском. Было получено разрешение ехать нам в царском поезде. До Ковно довезли нас в поезде, состоявшем из паровоза и третьеклассного вагона. Отец чувствовал себя очень утомленным всем происшедшим. И когда мы с братом начали бегать по вагону и шуметь, нас быстро усмирили».
Вера Константиновна в «Воспоминаниях об отце» не говорит о том, что отцом были утрачены очень важные для него бумаги, которые остались у немцев. Там была рукопись драмы об Андрее Боголюбском, весь черновой и подготовительный к ней материал, бумаги, связанные с постановкой «Царя Иудейского», и тетрадь дневника. Получалось так, что с 19 по 26 июля он ничего не записывал. Но у Константина Константиновича была прекрасная память, и он решил, что все события «утраченной» недели сможет восстановить. Его дневник 1914–1915 годов (в извлечениях) дополняет и уточняет рассказанное дочерью в «Воспоминаниях…» спустя много лет. Он дает картину первых одиннадцати месяцев мировой войны, когда эйфорию сменила жестокая реальность, каждый день казался вечностью, смена событий политических, военных, общественных развертывалась с нереальной, калейдоскопической быстротой.