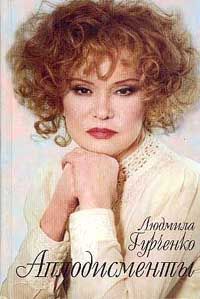Как он красиво говорит: «Гармония!» Вроде бы простое слово — от слова «гармонь». Баян. Ясно. Но как звучит — гармония! Я знаю, о какой песне он говорил. Я в ней «нашла» красивые подголоски. И сама влюблена была в мелодию цыганской песни:
Эх, бирюзовые, золоты колечики,
Ой, да раскатилися тихо по лужку,
Ты ушла, и твои плечики
Скрылися в ночную тьму.
Ай, да по зеленой травушке-муравушке,
Ой, да не собрать растерянных колец,
Не сыскать любви — забавушки,
Видно, счастью тут конец…
Дядя Вася так красиво играл! С переборами, с вариациями. «Хорош гармонист, хоть и слепой», — говорили посетители. Мой папочка так играть не умел. А дядя Вася играл «як зверь». Это точно.
У моих друзей — Толика, Валерика, Сени — появилась другая девочка. Всю зиму я болела, потом мама меня на базар не пускала — вот и занято мое место. Но это была родная сестра Толика. Она подросла. Я гордо проходила мимо, а душу грызла ревность. Девочку я рассматривала издали. Ничего особенного. Две толстые косички. Вместо лент веревочки.
Тоже мне! Мне бы такие косы. Да я бы их накрутила колечками, как у Марики Рекк, в крайнем случае, раздобыла бы два малиновых банта! На базаре продавали ленты из парашютного шелка. Все ядовитого цвета: голубого — «вырви глаз», оранжевого с желтым отливом — «алая роза». Но мне больше всего нравились малиновые ленты. Такой необыкновенный цвет… Мне с ребятами было куда веселее. Но ведь она сестра, а я чужая. Эх, если бы у меня был старший брат! Но все-таки легче оттого, что сестра, а не посторонняя девочка. Что ж, прощайте, Морда, Вилли, Сенчак. На базаре мне уже все знакомо. Я и в одиночку не пропаду.
В 1964 году я работала в театре «Современник». Тогда театр находился на площади Маяковского. После репетиции сказали на проходной, что меня вот уже два часа дожидается какой-то человек. Навстречу мне шел большой мужчина с черной бородой. Я его раньше никогда не видела.
— Здравствуйте, Людмила!
— Зд-дравствуйте…
— Наверное, вы меня не узнаете?
— Нет, извините, нет,
— Как бы это… Неудобно сказать… Да мы с вами когда-то воровали.
Я прямо шарахнулась от него. «Современник» в то время был самым популярным театром в Москве. Артистов немного. Все «личности». Атмосфера самая интеллигентная и интеллектуальная. В каждом углу читаются редкие стихи. Речь перемежается такими новыми, модными тогда словами: «экзистенциализм», «коммуникабельность»… Я репетирую Ростана «Сирано де Бержерак», борюсь со своим «харьковским диалектом», успешно, вот уже полгода, выращиваю в себе «голубую кровь» — и на тебе! Какой-то ненормальный. «Мы с вами, — говорит, — когда-то воровали». Такое ляпнуть!
Ну всегда, всегда со мной не так, как с людьми.
— Вы что, товарищ? Что вы говорите? Вы меня с кем-то путаете. — И быстро ухожу. Он меня догоняет. Весь красный, ему тоже очень неловко. Но хоть не нахал.
— Людмила… ну это… вот черт… в Харькове. Война, базар, мороженое. Всякое то-се… Ну? — И шепотом добавил:
— Ну, Толик я, — и еще тише: Мордой звали…
— То-олик! Ой, ну, конечно, конечно! Прекрасно все помню! Еще бы! Вас не узнать, вы такой большой…
— А я вас в кино сразу узнал, хотя вы тоже изменились. Всем говорю, что вас знаю, — никто не верит. Не скажешь же, что воровали в детстве… Все хотел вас повидать, да не решался. А сегодня думаю: а, чем черт не шутит? Принял для храбрости, и вот…
Мы зашли в ресторан «Пекин».
Толик стал горным инженером. В Москве был проездом с Севера.
Вспоминали далекое и такое родное прошлое. Уже громко, не оглядываясь по сторонам, называли все своими словами. Нас связывали особые узы братства, которые объединяли всех, кто перенес войну в Харькове.
Мы с удовольствием говорили на «военном» харьковском жаргоне. И ни один человек рядом не смог бы нас понять.
Из тети Валиных окон мы смотрели вниз, на наш переулок. Было шесть часов. А мама с базара все не возвращалась. Мы знали, что это значит.
Недавно убили дядю Васю. К вечеру за ним всегда приходила его жена. Они шли домой через весь город от Благовещенского базара, через центр, до Юмовской. В тот день она опоздала. Пивную закрыли, и дядя Вася пошел домой один. Его настиг проклятый комендантский час. Я представила дядю Васю: большой, в черных очках, с баяном и палкой в руке, растерявшийся и беспомощный…
«Единственный бескорыстный человек… так всегда с хорошими людьми», — сокрушалась мама. Мы с мамой и женой дяди Васи искали его, у всех о нем расспрашивали. Но где его найдешь, к кому обращаться… Это ведь комендантский час… Какое-то время мы не видели на базаре жены дяди Васи. А когда пришли ее навестить, в их комнате уже жила другая семья.
На диване, где раньше спал дядя Вася, сидели две девочки. Нам сказали, что жена дяди Васи умерла. Вот какое горе…
А теперь было шесть часов, и не было мамы.
С утра мы вместе продавали табак. Потом я, как всегда, пошла по своим делам. Везде все было по-старому. Лишь в пивной уже не было дяди Васи. На его месте стоял другой музыкант, только играл он не на баяне, а на скрипке. Подметки к ботинкам у него были привязаны веревкой. Очень худой, заросший, жалкий, говорили про него, что до войны он в Харькове «гремел», а теперь вот сильно пьет и к вечеру совсем не может играть. Фамилии его я не запомнила. К нему обращались: «Род-д-ной, ударь по душе!». Скрипку я так близко видела и слышала тогда впервые. Но играл он! Точно, бил по душе. Очень пронзительно… И становилось одиноко и страшно.
Мне всегда больно слышать соло скрипки. Я люблю хор скрипок в оркестре, они уносят душу высоко-высоко, хочется плакать и любить. А когда играет солист, какой бы он ни был — талантливый и импозантный, в сюртуке и в крахмальном жабо, — чем внимательнее я вслушиваюсь в его игру, тем яснее вижу ботинки, обвязанные веревкой, тем дальше уходят звуки этого нынешнего музыканта, — ее заглушают кричащие, выворачивающие душу импровизации талантливого пьяного скрипача.
После войны я посмотрела фильм «Петербургская ночь». В нем через всю картину идет спор, состязание двух музыкантов — талантливого и способного. Актер Добронравов играл талантливого скрипача. Я была поражена необыкновенным его сходством с тем скрипачом из пивной. Такая же отрешенность от мира, как будто на свете есть только музыка и больше ничего… Я смотрела фильм несколько раз. Меня преследовала необычная музыка Кабалевского, особенно тема «Погорельцы». А когда в 1965 году я снималась в фильме «Рабочий поселок» с Леной Добронравовой, как же я влюбленно на нее смотрела и думала: «Дорогая Лена! Ты даже не представляешь, что ты для меня. Ты — дочь актера Добронравова. А он — щемящая музыка Кабалевского, которая заставляет вспоминать того скрипача из пивной цыгана Коли, где рыдают пьяные посетители и просят „род-д-дного“ „ударить по душе“… А вокруг война, бой за жизнь, за хлеб и мое взрослое детство…»