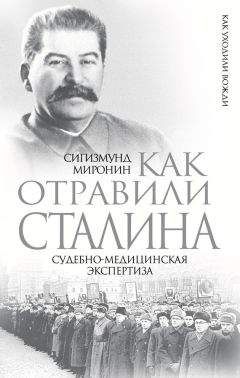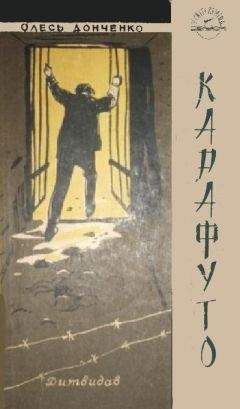Но такими рассуждениями я мог убедить себя. А Володьку?
Я чувствовал: правдоподобно соврать, что "нашел", не сумею. Володька поймет все сразу. Можно было, конечно, вообще не показывать монету. Но и без того заводить разговор о кладе, когда грех на душе, я не решался. Мне казалось, что Володька все равно догадается. Почует, что я нечист. А с тяжестью на душе приступать к важному делу не хотелось.
И я решил: подожду несколько дней. Монета у меня приживется, и я смогу уже без большой натяжки сказать небрежно: "Да она у меня давно"…
Несколько дней я с Володькой не встречался. Это было не трудно, поскольку он учился во вторую смену, а я с утра.
Но мысли о кладе меня не отпускали. Естественно, что первым местом, где следует искать сокровища, представлялся мне заброшенный дом. Как в "Приключениях Тома Сойера".
И однажды, в одиночестве гуляя во дворе, я решил, что хорошо бы провести предварительную разведку.
Конечно, лезть в дом одному было страшновато. Но ведь и вправду "в замирании души есть своя привлекательность".
Мама с Леськой ушли в поликлинику. Галка и Лилька еще не вернулись из школы, взрослых соседей тоже было не видать. Мне показалось, что на весь мир легла таинственная тишина.
Без труда перебрался я через щелястый, из горизонтальных досок сколоченный забор, который отделял наш двор от старухиного сада. Присел в густом чертополохе – как храбрый, но осторожный разведчик-партизан Витька Морковкин. Да, тихо было всюду. Я встал на четвереньки, еще раз глянул через сорняковые джунгли. Под ладонью у меня рассыпался сухой ком земли. Я поднял руку. И среди земляных крошек увидел… клад!
Ну, не совсем клад, всего две денежки. Но неожиданная находка согрела меня стремительной радостью.
Это были двухкопеечные монетки. Не очень древние, но все же царского времени. Одна 1898 года, другая – 1916-го. Кто-то в дореволюционные времена потерял их в саду, который тогда еще не был заброшенным. А я нашел!
Пусть это не сокровище, но все же прибавление к моей коллекции! Значит, судьба вовсе не сердится на меня за Серегину монету, раз подбросила такую находку.
Денежки были почерневшие, но двуглавые орлы с коронами и надписи проступали четко. И даже крошечные гербы ясно виднелись на растопыренных крыльях. Я потер монетки о свой балахонистый свитер, полюбовался ими. Надо спрятать. Карманов на моих штанах не было, я задрал свитер и убрал монетки в нагрудный карман ковбойки. Радостно вздохнул, поднялся с карточек и… увидел перед собой старуху.
Впервые увидел так близко, вплотную. Ведьма… Она смотрела на меня из-за бельма пронзительной половинкой зрачка:
– Что это ищешь не в своем дворе? А?
Я, конечно, чуть не помер с перепугу.
– Тут… Я это…
– Али промышляешь чего? —
– У меня… палка тут. Деревянная, – нашелся я. – Играл, кинул, а она сюда улетела.
– Палки ишши в своем дворе, – назидательно сказала старуха. – А с моего саду пошел прочь. – И пальцами-щипцами ухватила меня за ухо. – Ну-кось, провожу тебя.
Я стремительно присел. Ухо вырвалось. Я отскочил. Страх мой мигом прошел. Главное, что монетки со мной. А старуха – пусть теперь догонит! Ишь какая, расхваталась тут за уши! Постороннего человека! Я ей не внук, не правнук!
Метнувшись к забору, я взлетел по наклонному бревнышку, которое этот забор подпирало. И тогда оглянулся.
Теперь я был в безопасности. Ботинком стоял на верхнем конце подпорки, а грудью лежал на кромке забора. Один толчок – и я на своей территории. Старуха, озадаченная моей резвостью, застыла на месте.
Я не хотел покидать поле боя бесславно. Ухо и душа горели. Ухо – от боли, душа – от жажды мщения.
И, глядя через плечо, я отчетливо сказал:
– Я вам ничего не сделал, а вы хватаете! Вы уродина и старая ведьма, вот! Мне на вас тьфу!
– Ах ты, поросенок недокормленный! – Старуха двинулась ко мне мужским решительным шагом. Я театрально захохотал, толкнулся ногой… Мамочка! Шаткое бревнышко не выдержало, я сорвался, повис на руках. А еще через миг хлипкая доска изогнулась и одним концом оторвалась от столба. Я шлепнулся в жухлую траву и гнилые листья, обалдело сел, раскинув свои тощие ноги в черных заштопанных чулках. Старуха нависла надо мной, как воплощенное возмездие.
Ухо с перепугу тут же перестало болеть. А душа метнулась направо-налево в поисках пути для бегства. Тело слабо дернулось за ней следом. А старуха монотонно, однако с ноткой удовольствия проговорила с высоты:
– Чего уж теперь трепыхаться-то? Коли птенчик выпал, от старой кошки не уйдет. Покорись. Видать, так тебе предназначено, чтобы ведьма тебя уму-разуму поучила.
Эта речь влила в меня первую каплю обреченности. Я ослабел. Стало ясно, что не спастись. Куда ни кинешься, старуха успеет схватить. А она сказала уже иначе, по-деловому:
– Вот так, значит. Сколько тебе годков-то?
– Д… восемь, – бормотнул я. Было мне почти девять, но я смекнул, что к более малолетнему пленнику старуха, возможно, отнесется снисходительней.
Она склонила к плечу голову.
– Точно ли говоришь?
– Точно, – конфузливо отозвался я. – А вам-то зачем?
– Для протоколу.
Батюшки мои? В милицию, что ли? Однако тут же получил разъяснение:
– Сколько кому исполнилось, столько и горячих выписывают на первый раз. Небось, не пробовал еще горяченьких, с маху, по месту, откуль ноги торчат?
Я ослабел еще больше – от понимания, что здесь меня настигла неотвратимая и справедливая судьба. Пришло наяву то, о чем я не раз думал со страхом. Местом "откуль ноги" я вжался в землю. Но старуха зашла сзади и легко подняла меня, ухватив под мышки. И повела, держа перед собой. Я, конечно, упирался, но не сильно. Во-первых, совсем обмяк от навалившегося стыда и ужаса. А во-вторых… под глыбами этих чувств шевельнулся опять полузабытый мохнатый жучок.
Почти все мое существо противилось зловещему старухиному плану, и все же маленькую частичку существа щекотало любопытство: к а к э т о б ы в а е т? Словно я приближался к зеву черной пещеры, в которой таилась жуткая, но прнтягательная загадка.
Старуха привела меня, изнемогавшего от всех этих чувств, к старому дому, протащила через сени, впихнула в кухню. Сильно толкнула в спину. Я вылетел к печке и оглянулся – с чувством мышонка, запертого в одной клетке с котом.
Старуха пощупала меня бельмастым своим взглядом, довольно поджала губы, заперла дверь на тяжелый крюк и загородила ее оказавшимся поблизости табуретом. В руке у нее была изогнутая тонкая хворостинка. То ли старуха припасла ее заранее, то ли сумела сорвать по дороге, не знаю. Кончик у хворостинки дрожал. И я дрожал, съежился.