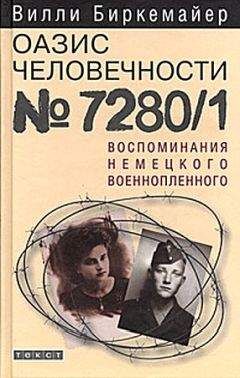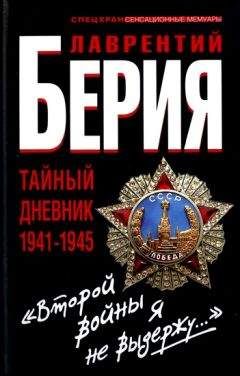Всё, я решил. Одну открытку я пошлю дяде Августу, адрес его я помню наизусть. А вторую — нашему учителю английского языка. Он много лет преподавал у нас в гимназии в Бохуме, всегда рассказывал что-нибудь интересное. Часто заменял других учителей; с тех пор как началась война, так бывало сплошь и рядом. Да и никаких других адресов я не помню, так что больше писать некому.
Вечер, я лежу на нарах и гляжу в потолок. И вдруг меня зовут — беги в контору, тебе письмо! Я слетел с нар и помчался туда. И правда — там письмо, письмо от моего брата! Не могу сдержать слез, ведь это первая весточка от родных! Схватил письмо, бегу назад в комнату, машу этим письмом и кричу: «Письмо пришло, письмо от моего брата, письмо из Германии!» Надо мной посмеиваются, с ума, мол, сошел от радости…
От волнения долго не мог открыть конверт, настоящий конверт, заклеенный как полагается. Четыре исписанные страницы, я их торопливо пробегаю — хочу поскорее узнать, что с мамой, где отец. Брат пишет:
«Мать в порядке, от отца вести из чешского плена. А я был под конец, как тебе известно, с «Викингом» в Венгрии, при отступлении под Веной благополучно попал в плен к американцам, а в мае меня уже отпустили…»
Еще он пишет о нескольких общих друзьях и о всяких пустяках. А полстраницы написаны мамой, у нее дрожит рука, и я едва разбираю слова. А брат Фриц пишет и о новой жизни в Германии, и мне приходится читать письмо товарищам вслух. Читаю снова и снова, а потом письмо идет по рукам на наших нарах — каждому хочется самому увидеть, подержать в руках весточку из дому. Товарищ по комнате Дарит мне свою открытку, чтобы я мог поскорее ответить; у него самого вся семья погибла под бомбами при воздушном налете, никого из родственников у него в Германии не осталось. Конечно, я хочу поскорее написать открытку, ответить, но что писать? Возгласы радости? Вот эта открытка:
«Мои дорогие! Получил ваше письмо и заплакал от радости и удивления. Надеюсь, отец скоро вернется домой! Не беспокойтесь обо мне! Успехов Фрицу! Пришлите фотографии!
Вилли».Может быть, дело еще в том, что нам разрешалось написать в открытке только 25 слов, не больше. А мысли у меня в голове путаются, важно одно — мои родные живы и я это знаю!
А через два дня, когда пришедшее мне письмо обошло уже не только всю нашу комнату, но побывало почти на всех этажах дома-лагеря, меня разбудили ночью. Охранник повел меня к немецкому коменданту. К «господину командиру полка».
«Военнопленный Биркемайер по вашему приказанию явился!» — и руки по швам, так нам полагается представляться господину лейтенанту. Нескоро я забуду его сверлящий взгляд, ярко-рыжие волосы, рыжие усы, плотно сжатые губы. Летчицкий мундир, черные сапоги и брюки-бриджи — милитарист во всей красе. Когда он расхаживает по лагерю, на нем еще серые перчатки. И никогда без хлыста. И где только его русские выкопали?
Сидит, развалившись в кресле, сосет трубку и долго молчит. Наконец: «Так, значит, ты получил письмо от брата».
Я подумал, что он тоже хочет его прочесть, и уже собрался сказать, что пойду принесу. Но прищуренные глаза и его наглый взгляд не предвещают ничего хорошего. «Про что тебе пишет этот твой эсэсовец? И что это значит «благополучно — к американцам»! Ты, видно, тоже из СС, в гитлерюгенде был фашистом, получил от фюрера Железный крест, так или нет? А ну, признавайся!» — орет на меня, машет перед лицом своей плеткой. У меня во рту пересохло, не могу произнести ни слова. Кому я мог рассказывать про Железный крест? Настройке, когда разбирали кирпичи и вспоминали войну? Но уж про фюрера я ничего не говорил! А что гитлерюгенд? Все ведь там состояли, так в Германии полагалось. Тогдашний руководитель германской молодежи, рейхсюгендфюрер Артур Аксманн, в декабре 44-го наградил Железными крестами целую группу таких, как я, новобранцев, я ведь только одни из них…
И при чем здесь мое письмо и что брат служил в войсках СС? Или все это связано? Здесь что, тоже закон, по которому отвечают вместе с обвиняемым члены семьи?
А этот тип вскакивает с места и бьет меня кулаком в лицо. С меня хватит, я выскакиваю в коридор и бегу в нашу «спальню». Залезаю на свое место и рычу от злости. Как он смеет меня бить? Сосед меня толкает, он, наверное, думает, что это я во сне кричу. Никто ведь не видел, что меня вызывали, или не хотел видеть, потому что, когда вызывают ночью, ничего хорошего это не обещает; каждый боится, что возьмутся и за него.
Утром, когда шли на завтрак, меня позвал охранник и отвел в кабинет НКВД. А там капитан Лысенко молча взял меня и повел в подвал. Я уже неплохо говорил по-русски и спросил, за что он меня сажает. «Ты СС!» — коротко отвечает он, и я остаюсь один в камере. Окна нет, света тоже, чуть видна светлая полоска под дверью, но вот Лысенко поднялся по лестнице наверх и выключил свет в подвале. Теперь полная тьма. Ощупью медленно пробираюсь вдоль стен, натыкаюсь на какое-то ведро. Чуть не падаю на скамью, это узкий лежак, холодный и мокрый.
Мне страшно. Что я такого сделал? Не дал этой свинье, этому «коменданту», бить меня дальше? Злюсь и на себя. Зачем я про этот Железный крест рассказывал? Все еще им гордился? Но какой же шестнадцатилетний мальчишка не станет гордиться наградой, какую дают настоящим солдатам и только на фронте, на передовой? Проходит час за часом, сижу на скамье. Ходить по карцеру мало толку, опять наткнешься на ведро, я уже раз упал.
Но вот под дверью опять появляется светлая полоска. Пожилой охранник открывает дверь и протягивает мне маленький кусок хлеба и жестянку с теплым чаем. Пока из-под двери пробивается свет, стараюсь запомнить, где находится лежак и где ведро; не хотел бы я снова упасть с чаем и с кусочком хлеба в руках. Благополучно добираюсь до моего ложа. Часовой не выключил свет в подвале, может, забыл, а может, сочувствует мне. А передо мной словно все еще стоит этот с рыжей мордой, орет на меня, бьет кулаком, а я не могу увернуться. Ненавижу эту сволочь! Надо узнать его фамилию, чтобы потом, когда он вернется домой и я буду снова в Германии, отыскать этого живодера, мучителя пленных, чтобы его наказали по заслугам, — другие пленные о нем такое рассказывают! Если хотя бы половина из этого правда, то… Но выберусь ли я отсюда? И если да, то когда? Съедаю хлеб, пью чай. Хорошо бы оставить немного, чтобы было попить на потом, но боюсь разлить в темноте. Выпиваю все.
Ложусь на скамью, поджимаю колени, стараюсь свернуться клубком, как еж. Мне холодно, а шинель осталась на нарах в «спальне». Теперь у меня только одна мысль — как выбраться отсюда живым? Изредка слышны где-то в отдалении шаги, остальное время — мертвая тишина. Наверное, я заснул — просыпаюсь весь дрожа от холода, а может, и от страха перед неизвестностью. Мучают голод и жажда. Уже ночь? И вообще, сколько времени я здесь нахожусь? Мне надо в уборную, но где это ведро? Медленно передвигаюсь в надежде найти его. Куда оно покатилось, когда я на него наткнулся и опрокинул? Ползаю по полу, наконец нащупываю ведро. Замечаю при этом, что в некоторых местах пол испачкан, чем — и думать не хочется… Любая сортирная яма — и то лучше, там хоть видишь, что вокруг делается, а здесь так темно, что чернее и быть не может. Ну, теперь с ведром в самый угол, только бы его потом не опрокинуть!