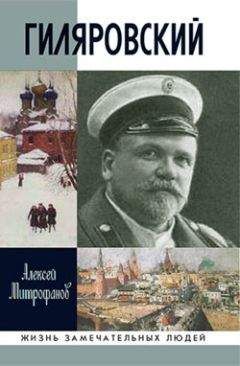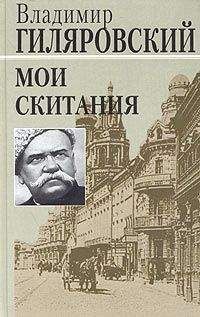А поэт ему:
— Нет, врешь, повиси!
На эту сцену возвращается Далматов. Увидел и ошалел. А потом как схватится за голову…
— Опять твои шуточки, Володька! Да что же мне делать с тобой, погубитель? — Схватил вне себя револьвер со стола… бац, бац! У поэта пуля в ляжке…
А он говорит:
— Стреляй еще!
Опомнился, бросил револьвер… Спустил пристава, а он от стрельбы и раны поэта так струсил, что уже не в претензии, что повисеть пришлось, только бы не влететь в уголовщину да замять скандал… Кровь из поэта ручьем льет. Ну, перевязали дырку кое-чем, сели втроем пить вишневку…
Как ни хорошо известно мне, что молодость поэта полнее необычными приключениями, чем ресторанный садок с рыбой, однако на сей раз усомнился… Спросил Далматова, он даже побледнел при воспоминании.
— Еще бы не правда! Ты представить себе не можешь, как этот изверг Володька тогда меня напугал…
— Со страху и стрелял?
— Да что же с ним, чертом, было еще делать?»
* * *
А свободное от репетиций время Гиляровский проводил в окрестностях Глебучего оврага. Этот овраг был достопримечательностью города. Журналист И. Горизонтов писал: «Древние саратовцы выбрали себе приют умненько: с запада их окружало непроходимое болото с лесом (где теперь настоящий город), с северо-востока глубокий овраг (Глебучев), с юго-востока и юга — Волга: накось, возьми их!»
Видимо, один лишь Горизонтов осмелился печатно восхититься этой достопримечательностью города. В основном же Глебучев овраг всячески охаивали.
Писатель Орешин, к примеру, так запечатлел жизнь этой трещины: «Глебучев овраг через весь Саратов тянется: от Волги до Вокзала, и живет в овраге сплошная нищета. Розовые, голубые, синие домишки друг на друге как грибы поганые, лепятся на крутосклонах, того и гляди, верхний домишко на своего нижнего соседа загремит. В летнюю пору банная вода посредине оврага течет, растет колючий репей, свиньи в тине лежат, ребята на свиньях верхом катаются. Весенняя вода в овраге разливалась саженей на пять, бурлила, клокотала, гудела и несла через весь город дохлых собак, кошек, бревна, поленья, щепу. Овражные жители охотились за щепой и поленьями. Народишко бедный, домишки рваны, заборишки худы — жили, как птицы».
Николай Чернышевский с этаким высокомерным состраданием писал об обитателях оврага: «Разнокалиберная мелюзга всех полунищенских положений, вне прочно установившихся бедных сословий, вся и очень честная и не очень честная бесприютная мелюзга от актеров жалчайшего театришка до вовсе голодных бездомников — все это мелкое, многочисленное население города, разорявшееся от непосильных подушных податей и постоянно находившееся под угрозой попасть в работный дом, где заключенные занимались тяжелым трудом и подвергались истязаниям».
Время от времени власти Саратова пытались что-то предпринять в Глебучем овраге. Например, разместить там кузнечные и прочие вредные производства. Или переоборудовать овраг под сад. Но все было впустую — кузнецы селились там, где им хотелось, а найти денег на такой гигантский сад, конечно, не удавалось.
Чем же там занимался Гиляровский? Да ничем особенным. Просто играл с мужиками в орлянку. «Здесь целый день кипела игра в орлянку. Пьянство, скандалы, драки. Играли и… оборванцы, и бурлаки, и грузчики, а по воскресеньям шли толпами разные служащие из города и обитатели „Тараканьих выползков“ этой бедняцкой окраины города. По воскресеньям, если посмотреть с горки, всюду шевелятся круглые толпы орлянщиков. То они наклоняются одновременно все к земле — ставят деньги в круг или получают выигрыши, то смотрят в небо, задрав головы, следя за полетом брошенного метчиком пятака, и стремительно бросаются в сторону, где хлопнулся о землю пятак. Если выпал орел, то метчик один наклоняется и загребает все деньги, а остальные готовят новые ставки, кладут новые стопки серебра или медяков, причем серебро кладется сверху, чтобы сразу было видно, сколько денег. Метчик оглядывает кучки, и если ему не по силам, просит часть снять, а если хватает в кармане денег на расплату, заявляет:
— Еду за все!
Плюнет на орла — примета такая, — потрет его о подошву сапога, чтобы блестел ярче, и запустит умелою рукою крутящийся с визгом в воздухе пятак, чуть видно его, а публика опять головы кверху.
— Дождя просят! — острят неиграющие любители.
Вот я по старой бродяжной привычке любил ходить „дождя просить“. Метал я ловко».
Что поделать — бурлацкое прошлое сказывалось.
* * *
Кстати, именно в Саратове Владимир Алексеевич влюбился в первый раз. В ту самую Гаевскую, которую геройски защищал от прочих воздыхателей. Впрочем, перед ней он робел — провожал до дома, познакомился с родителями, иногда с ними чаевничал. Но даже не осмелился коснуться ее нежной руки. А затем жизнь нашего героя в очередной раз встала с ног на голову.
Шла Русско-турецкая война. По всей стране была объявлена мобилизация.
Однажды Гиляровский встретил своего коллегу по театру, некого Инсарского. Тот прилично выпил за обедом, и Владимир Алексеевич решил над ним немного подшутить и затащил на заседание городской думы. Там какой-то депутат агитировал записываться в добровольцы.
— Юрка, — шепнул Гиляровский Инсарскому. — Пойдем на войну!
— А ты пойдешь? — спросил Инсарский, плохо соображающий.
— Куда ты, туда и я, — ответил шутник.
Каково же было удивление Инсарского, когда на следующий день в театр на репетицию явился гарнизонный и вручил Инсарскому и Гиляровскому повестки.
Инсарский чуть не упал в обморок — он, разумеется, воспринимал вчерашнюю проделку исключительно как шутку, да и вообще мало что помнил. Зато в обморок упала его юная жена, случайно оказавшаяся вместе с ним на репетиции.
— Юра… Юра… Зачем они тебя? — причитала она, вновь обретши сознание.
— Сам не знаю, — мотал головой доброволец. — Вот пошел с этим чертом, и записались оба…
Если бы не мускулы и кулаки нашего героя, то его, наверное, побили бы. А так — все обошлось. Тем более что отступать было некуда. С Министерством обороны не пошутишь. Да и по Саратову в момент поползли слухи — дескать, актеры пошли на войну.
В ближайший понедельник к девяти часам утра оба явились в местные казармы. Владимир Алексеевич, как заправский строевик, сразу был назначен обучать новеньких солдат. В том числе и Инсарского. Гиляровский, разумеется, сочувствовал своей несчастной жертве, но дальше сочувствия дело не шло: «Через два дня мы были уже в солдатских мундирах. Каким смешным и неуклюжим казался мне Инсарский, которого я привык видеть в костюме короля, рыцаря, придворного или во фраке. Он мастерски его носил! И вот теперь скрюченный Инсарский, согнувшийся под ружьем, топчется в шеренге таких же неуклюжих новобранцев».