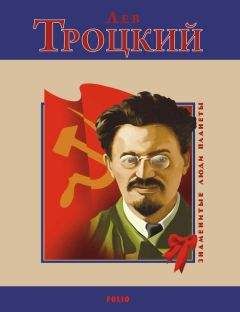Прошло недели три со дня приезда Троцкого. Однажды подхожу к телефону: «Это ты, Гриша? Узнаёшь меня? Я — Троцкий».
Оказалось, что он давно хотел видеть меня, всячески разыскивал меня (при желании не было ничего легче, как найти меня). О моём присутствии на балах, он узнавал, либо когда меня уже там не было, либо после того, как сам уходил. Словом, он хочет со мною увидеться и просит назначить удобное место и время.
Я пошёл к нему. Встреча наша была дружеская, хотя и не очень горячая. Неловкости никакой не чувствовалось, потому что мы оба, как бы по молчаливому уговору, избегали всяких разговоров на животрепещущие политические темы (дело было ещё до февральской революции), у нас был богатый материал для общения и без них. От него я узнал о судьбе многих друзей и товарищей, которых я давно из виду потерял.
«Как Парвус?» (когда-то учитель и вдохновитель Троцкого) — спросил я.
— Наживает двенадцатый миллион, — кратко ответил Троцкий.
Я был у него ещё несколько раз. На политические темы мы почти совсем не беседовали. Однажды он как-то сделал замечание по поводу Плеханова, понятно, не совсем одобрительного свойства. «Значит, он контрреволюционер, папа?» — спросил его одиннадцатилетний сын, стоявший тут же и внимательно прислушивавшийся к нашему разговору. Троцкий улыбнулся и ничего не ответил.
Он предложил мне как-то сыграть в шахматы, по-видимому, считая себя хорошим шахматистом. Он обнаружил себя слабым игроком, — проиграл, чем был явно недоволен, и предложил немедленно сыграть другую партию. Выиграв её, он больше играть не пожелал.
В этом маленьком эпизоде характерно не только то, что Троцкий не хотел играть, раз опасность проиграть, т. е. обнаружить превосходство противника, была велика, — но, ещё более, что Троцкий, при своей натуре не мог научиться хорошо играть. Чтобы научиться хорошо играть в шахматы, надо много играть с превосходящими игроками т. е. проигрывать. Троцкий никогда себе этого позволить не мог.
* * *
Я уже указал выше, что первая речь Троцкого открыла мне глаза на смысл вкладываемый им в повторяемый всеми «интернационалистами» лозунг «немедленный мир». Мне стало ясно, почему он так хочет немедленного прекращения военных действий, совершенно независимо от военной карты в данный момент. Для меня только ещё менее ясным стало посте этого, почему его симпатии всё-таки явно клонятся к Германии, и почему он с несомненным сочувствием относится к её победам.
Одна его лекция открыла мне глаза на эту сторону вопроса. Нарисовав в этой лекции картину того, как современное капиталистическое общество Европы и даже всего цивилизованного мира, в своём прогрессивном развитии, идёт все к большему и большему объединению, как это развитие неизбежно ведет к уничтожению экономической независимости и самостоятельности отдельных стран, усиливая их взаимную связь, он приходит к правильному выводу, что всё усиливающаяся прогрессивная связь и зависимость между цивилизованными странами, неизбежно влечет за собой и необходимость политического объединения. И всякие попытки отстоять политическую независимость и самостоятельность той или иной страны, — будь то Бельгия, Сербия, Австрия, Франция или Россия — неизбежно будут политически, а, стало быть, и социально, реакционными. И потому всякие разглагольствования об обороне являются в высшей степени вредными и реакционными. «Социал-патриоты» же своими идеями о защите данного отечества сбивают только массы с правильного пути, удерживая их от того, чтобы они поскорее бросали оружие.
Только одна из всех воюющих стран, по размаху своего капиталистического развития ушла так далеко и обладает такими колоссальными экономическими, духовными и культурными ресурсами, что она единственная, может быть, смогла бы, в случае победы, насильственно сверху осуществить это объединение всего цивилизованного мира и, таким образом, сыграть весьма прогрессивную роль. Эта страна — Германия.
Троцкий выражался очень осторожно. Очевидно, он боялся более определённо высказываться, чтобы как-нибудь слишком открыто не обнаружить вытекающее отсюда его германофильское пристрастие. Я с напряжением вслушивался в его речь, чтобы уловить и не потерять основную нить его рассуждений. Сделать прямые выводы из этой идеи и высказать их с полною определённостью у него не могло быть сильного желания по весьма понятным причинам: он тогда находился в апогее своих надежд осуществить это объединение другим путём, путём революции и восстаний в отдельных странах. Идею германского завоевания он прятал, — может быть, и от самого себя, — на задах своей психики, как резерв, как запасной план на тот случай, если первый путь потерпит крах.
Как опытный стратег, он не мог, конечно, распространяться о перспективах маловероятного, по его мнению, поражения, чтобы не мешать возможной ещё победе. «Метод буржуазии в решении назревших вопросов между государствами, это война, метод пролетариата — это революция», авторитетно заявлял он в своей брошюре «Война и Интернационал». Как «революционер», он предпочитает второй метод, и только, при провале его, соглашается на первый метод, метод завоевания мира деспотической Германией.
После заключения в Бресте мира с деспотической Германией, очень беззастенчиво давшей почувствовать свою тяжёлую лапу, большевики, некоторое время чувствовали себя немного ошеломлёнными. Не только внешнее, но и внутреннее положение было таково, что отнюдь не располагало большевиков к радужным мыслям на счёт ближайшего будущего. Настроение у новых господ России было довольно мрачное. И вот, когда стали приходить сведения о том, что Япония, с согласия своих союзников, готовится к нашествию на Советскую Россию, Троцкий в печати заявил: «Если нам будет грозить нашествие империалистов Антанты, мы заключим наступательно-оборонительный союз с Германией (правительство Вильгельма тогда, только что сокрушив Россию, ещё вело победительную войну с державами Согласия), как с более прогрессивной империалистической страной против более реакционной Антанты».
Тщательно скрываемая от себя и других резервная идея германского завоевания из психических задворков, начала, таким образом, выступать на передний план и принимать реальный облик.
* * *
Возвращаясь, иногда, вместе со мной с лекции, Троцкий удостаивал меня своим вниманием и, покровительственно похлопывая меня по плечу, обращался к сопровождавшей его небольшой свите: «Это мой старый друг, которому надо только месяца два побыть во Франции, чтобы стать хорошим социалистом».
Однажды, воспользовавшись тем, что мы были одни, я стал интервьюировать его относительно некоторых его нью-йоркских сотрудников-«интернационалистов». Был среди них некий Семков, человек малограмотный, но от природы наделённый громким голосом и чрезвычайно «революционной» манерой речи. Он обладал какою-то исключительной способностью без передышки сыпать в течение любого периода времени фразами отборного «революционного» качества, хотя без всякой внутренней связи и какого бы то ни было отношения друг к другу. Как для человека совершенно невежественного, для него совсем не было трудных тем или вопросов, и все ему было понятно и ясно. Его никогда нельзя было застать врасплох. Он всегда и во всякий момент был готов «возражать» по всякому вопросу, по всякому поводу и во всяком месте. Его исступленные выступления производили такое впечатление, как-будто, отправляясь из дому на собрание, он, вместе с папиросами и спичками, наспех и впопыхах набивал карманы также первыми попавшимися фразами из катехизиса Ленина и Троцкого. А придя на собрание, не выслушав даже толком противного оратора, поспешно выворачивал карманы и высыпал весь этот хлам: фразы, изломанные, исковерканные, искрошенные, без начал, без концов, середин, но за то неизменно падавшие с тем более оглушительным «революционным» звоном и неизменно доставлявший их автору колоссальный успех в «революционно» настроенной толпе. Его очень ценили в «интернационалистических» сферах, и он считался незаменимым ценным работником. Вот об этой то звезде я, не без ехидства, спросил Троцкого.