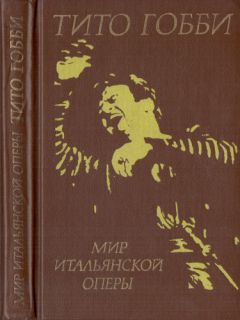Ознакомительная версия.
Единственной и нерушимой правдой было: за десять лет он даже в мелких вещах не дал ни одной настоящей, ни одной полноценной ноты. Реквием, его последнее произведение, стал отходной по нему самому.
«За десять лет ничего!»
Снова и снова, вот уже много месяцев, он как одержимый твердит про себя эти слова. В них ад для человека творчества, который чувствует, как пролетает день за днем, унося драгоценный дар.
Работать! Это значит: ты чувствуешь странный жар и жаждешь поскорей от него избавиться! Работать! Это значит: ты чувствуешь рост и счастлив до безумия. Но если подумать хорошенько – терзания воли превосходят радость…
И все-таки! Каким паразитом становится человек, тунеядцем с нечистой совестью, когда он не может больше работать! Тысяча разбегов – а прыжка нет! Тысяча атак – и все отбиты! Что это? Ложное ощущение старости, которое растекается по телу мягкостью и слабостью после чрезмерного напряжения? Сознание своего бессилия? Или поражения? А достигнутое раньше? Слава стольких дел? Их совершил другой, совсем другой, который за это почти ненавистен.
Десять лет! Десять лет!
Маэстро вышел на балкон. Уже опустились январские ранние сумерки. Внизу на Рива дельи Скьявони по двум мостам катилась праздная вечерняя толпа. Плотный, вибрирующий гул – канат, сплетенный из многих тысяч голосов, – стоял над городом. У пристани Сан Заккариа стояли на причале пароходы, обеспечивающие связь с островами. На юте кораблей и на пристани уже замерцали первые фонари. Торопливо перемалывали колесами воду два-три старомодных пароходика, качающиеся, точно маятник, между двумя устьями большого канала.
Первый месяц 1883 года, хоть и необычно теплый, был все же бесцветно уныл. Облаком летней дорожной пыли повис туман над лагуной. Цвет этого тумана, не похожего на испарения, был вял – вял, как цвет самой лагуны, которая, казалось, вела свой род не от Адриатики, не от пурпурно-лазоревой матери песен, а от голландского Зюдерзее или глади Финского залива.
Сан Джорджо давно исчез в дыму, Догана и Мария делла Салюте плыли, точно угрюмые северные дюны, по темной поверхности. В быстром скользящем полете спускалась Бора. Тысячи маленьких остроголовых волн похотливо прядали на древней слепой воде – расплясавшаяся разнузданность. И все причальные мостики, все запотевшие гондолы на Пьяцетте, и гондолы там дальше на каналах, даже тяжелые баржи на Кьодже захватила пляска, тот баюкающий танец воды, который издревле сделал Венецию городом любви. Но унынию уделена была лишь одна минута. Ночь положила ему конец. Однако в то мгновение, когда тоска уже совсем было улеглась, тяжелый морской пароход прорезал тучу мрака, тумана, вихря и движения и медленно удалился со своим мертвым чревом и еле живыми огнями. Протяжно и страшно завыла в тумане предсмертная жалоба сирены.
Маэстро запер дверь балкона и зажег столько света, сколько было можно. Потом по давнишней привычке сто раз измерил ровным шагом большую комнату, в сотый раз обошел круглый стол посередине, наконец подошел к роялю и правой рукой быстро пробежал по клавишам. Нехотя прорвались первые два такта квартета из «Риголетто». Как будто коснувшись чего-то мерзкого, Верди захлопнул крышку.
«Вот я приехал сюда. Зачем? Ради чего? Но здесь это мне непременно удастся. Только здесь.
Кто же всему виной, как не он? Не будь его, я мог бы работать… Какое-то наваждение!
До сих пор я трусил!.. Да, черт возьми, трусил! Но теперь я снова я. Теперь я выхожу на борьбу. Сумасбродство! Но нет, я отчетливо чувствую, что будет борьба… Почему? Ах! Он меня не знает! Возможно, мы могли бы стать друзьями! Я мог бы говорить с ним с глазу на глаз! Что за ребяческие чувства!.. Я приметил каждую черту его лица! Меня почти влечет к этому человеку… Бороться! Да, бороться!»
Маэстро, однако, не отдавал себе сколько-нибудь ясного отчета в значении слова «бороться», к которому снова и снова возвращалась его мысль. Вдруг он остановился, стиснул зубы, что-то дикое и злое проступило в его лице. Каждый, кто увидел бы его сейчас, содрогнулся бы, почувствовав опасность. Резким рывком он вскинул на стол ручной чемодан. Затем повернул ключик в замке и вынул из чемодана увесистую папку с исписанными нотными листами. На заглавном листе крупными буквами была выведена надпись: «Il re Lear, opera di G. Verdi».[28]
В тот самый час, когда маэстро мерил шагами свою комнату в гостинице, Итало в сотый раз быстро, почти бегом, то вдоль, то поперек пересекал Пьяццу. То перед Прокурациями, то перед Библиотекой, то наверху у Дворца Дожей, то внизу у собора, то покидая пост, то вновь на него возвращаясь, караулил он, когда же появится его кумир. Наконец он увидал приближавшуюся со стороны Ашенсионе изящную, маленькую фигуру композитора.
Вагнер шел с каким-то господином, который ростом был не выше его самого. Незнакомец – худощавый, с черной бородой, впалыми щеками, слишком тонким заостренным носом – производил впечатление ученого еврея-кабалиста. Но и в нем, казалось, погасло все индивидуальное, как это заметно бывало на всех людях в общении с Вагнером.
Великий человек говорил беспрерывно, со свойственной ему сильной жестикуляцией. Собеседник наклонял к нему ухо и с восторженной улыбкой глядел под ноги, как будто там на дороге раскрывалась чудесная сказка. Когда в речи наступала короткая пауза и Вагнер чисто риторически допускал ответ, на губах незнакомца играло немое дыхание слова, которому благоговение запрещало воплотиться в звуки. К чему говорить, когда все исчерпано до дна?
Два раза господин, – может быть, лишь для того чтобы установить хотя бы видимость равноправия, – попробовал что-то возразить. Но голос его обрывался на полуфразе, потому что Вагнер снова заводил речь. Он говорил взволнованно, проникновенно, торопливо, как человек, которому нужно провести затяжной разговор, а времени мало. Предмет разговора был, видимо, очень близок композитору, так как выражение его лица становилось все более нетерпеливым, даже страдальческим. Незнакомец же – не потому, что его осыпали упреками, а потому, что сам изведал в жизни великую горечь гонений, – весь как-то съежился, стал совсем прозрачным. Слишком тяжела была ноша для хрупких плеч.
Рихард Вагнер говорил все громче. Он досадливо тряс головой, словно отгонял осу, он топал ногой, хотя бородатый не только не возражал ни слова, но даже закрыл сейчас глаза. Впрочем, композитора, может быть, раздражала именно эта слабость, эта робкая, безликая мягкость; потому что теперь он занес кулак над совсем онемевшим человеком. Но вдруг он откинул голову назад, точно олень, почуявший охотника, глаза его расширились, как будто заслышал он вдали призыв, и, не глядя на спутника, он бессильно кивнул ему, делая знак, чтобы тот шел дальше и оставил его одного. Чернобородый послушался и в благоговейном страхе тотчас, пошатываясь, пошел вперед и ни разу не оглянулся.
Ознакомительная версия.