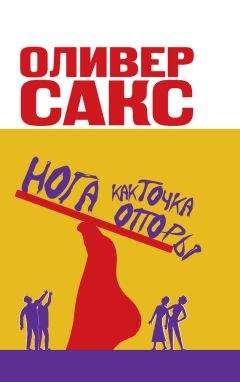Таким образом, день закончился глубоким, лишенным сновидений сном, в который я доверчиво погрузился, — по крайней мере до середины ночи. Однако потом началась последовательность сновидений самого гротескного и невероятного сорта, сновидений, которые никогда раньше мне не снились — ни когда я беспокоился, ни когда у меня повышалась температура или начинался бред... Несколько часов я оставался жертвой этих кошмаров. Я ненадолго просыпался, в недоумении и ужасе, только чтобы через мгновение снова погрузиться в сновидение. В определенном смысле они не были похожи на сны — они отличались монотонностью и постоянством, которые были совершенно несвойственны сновидениям; скорее они напоминали повторение какой-то неизменной физиологической реальности. Мне снилась только нога — точнее, не нога. Мне снова и снова снилось, что гипсовый цилиндр — сплошной, что нога у меня — неорганическая, из мела, штукатурки или мрамора. Я сидел в кресле, возможно, за обедом, или на скамье в парке, наслаждаясь солнечным теплом, — эти части сновидения были простыми и прозаическими, — но что бы я ни делал, я никогда не стоял и не шел, и всегда вместо ноги у меня был белый каменный цилиндр, такой же неподвижный, как нога статуи. Иногда он состоял не из штукатурки или мрамора, а чего-то хрупкого и рыхлого, как песок или цемент, — и эти сны сопровождались дополнительным страхом: не было ничего, что удерживало бы эту массу вместе, она не имела внутренней структуры или сцепления — только внешнюю поверхность без видимого содержимого. Часто мне снилось, что гипсовая нога совершенно полая, хотя это слово не совсем адекватно: не столько полая, сколько пустая, меловой конверт, просто скорлупа вокруг пустоты, вакуума.
Иногда это была нога из тумана, который тем не менее сохранял свою неподвижную, застывшую форму, иногда — и это было хуже всего — нога состояла из темноты или тени... или вообще из ничего. Той ночью никаких изменений в сновидениях не происходило, или скорее изменения были чисто периферийными и случайными, с небольшими различиями в окружающей обстановке. В центре каждой сцены находилось это неподвижное, нематериальное, невыразительное нечто. Ни у одного сновидения не было сюжета. Они были застывшими и статичными, как живые картины или диорамы, созданные словно исключительно ради демонстрации этой пустоты, этого фантома, о котором ничего нельзя сказать.
Я иногда на мгновение просыпался — должно быть, с дюжину раз, делал глоток воды, тушил свет — и снова, не изменившись от пробуждения, передо мной оказывалась белая как мел реальность, или нереальность, моих снов. Именно в один из таких моментов, когда в окне уже стали заметны первые лучи рассвета, я неожиданно понял, что меня преследуют неврологические сновидения, не лишенные навязчивых фрейдистских аспектов, но привязанные к неизменному органическому детерминанту. И еще я внезапно вспомнил, что, хотя сам никогда раньше подобных снов не видел, я иногда слышал точно такие же описания от своих пациентов, страдавших инсультами, параплегиями, тяжелыми невропатиями, фантомными болями, — пациентов с различными патологиями и повреждениями, общим для которых было одно: серьезные неполадки с образом тела. То, что им снилось ночь за ночью (как предстояло и мне), основывалось именно на нарушениях образа тела и псевдообразах, фантомах, ими порожденных. Мои собственные сновидения, как мне теперь казалось, подтверждали как раз это: часть моего образа тела, телесного Эго, умерла. Такое заключение сопровождалось великой паникой, но и великим облегчением, так что я снова уснул крепким сном без сновидений; однако наутро мне приснился странный кошмар, сначала показавшийся мне, впрочем, всего лишь «обычным» кошмаром. Мы воевали — с кем и почему, оставалось неясным. Что было ясным и повторялось всеми, так это опасение того, что враг обладает абсолютным оружием, так называемой отрицающей бомбой. Она могла, говорили шепотом, пробить дыру в реальности. Обычное оружие только разрушало материальные объекты в определенном месте; эта же бомба уничтожала мысль и само пространство мыслей. Никто из нас не знал, что думать или чего ожидать, поскольку, как нам говорили, эффект такой бомбы нельзя себе представить.
Как и многие приснившиеся мне люди, я испытывал потребность быть на открытом месте; вместе с моей семьей я стоял в саду рядом с нашим домом. Сияло солнце, все казалось нормальным — за исключением окружавшей нас пугающей тишины. Неожиданно у меня возникло чувство, что случилось нечто, хотя я и не имел представления, что именно. Я заметил, что исчезло наше грушевое дерево. Оно находилось слева от меня — и теперь неожиданно его не стало; грушевого дерева на месте не было!
Я не повернул головы, чтобы рассмотреть получше. Почему-то мне даже не пришло в голову перевести взгляд. Грушевое дерево исчезло, но также исчезло и место, где оно находилось. Не было ощущения освободившегося места — места там больше просто не было. Мог ли я быть уверен, что раньше оно было? Может быть, ничего и не исчезало. Может быть, и грушевого дерева никогда не было. Может быть, память или воображение шутят надо мной шутки. Я спросил свою мать, но она была так же растерянна, как и я, — и точно таким же образом; она тоже не могла больше видеть дерева, но тоже сомневалась, существовало ли оно. Не было ли это действием отрицающей бомбы — или наши опасения вызвали нелепые фантазии?
А потом исчезла и часть ограды, включая ворота, ведущие на Эксетер-роуд. Только исчезла ли? Может быть, никакой ограды никогда и не было. Может быть, никогда не было ворот, выходящих на Эксетер-роуд, и никакой Эксетер-роуд тоже... Может быть, слева вообще никогда ничего не было? Моя мать, переместившаяся так, что теперь стояла прямо передо мной, оказалась странным образом рассечена — у нее отсутствовала левая половина. Но... но мог ли я быть уверен, что левая половина у нее была? Не являлось ли само выражение «левая половина» бессмысленным? Меня внезапно охватило непреодолимое отвращение; я почувствовал, что меня сейчас вырвет...
Неожиданно распахнулась дверь, и в палату вошла очень озабоченная сестра Сулу.
— Прошу прощения, что так врываюсь, — сказала она, — но я заглянула сквозь стекло и увидела, что вы ужасно бледны — как будто в шоке. И дышали вы тяжело. Мне показалось, что вас вот-вот вырвет. Вы хорошо себя чувствуете? — Я молча кивнул, вытаращив на нее глаза. — Почему вы так на меня смотрите?
— Э-э... ерунда, ответил я. — Просто сон плохой приснился. — Мне не хотелось говорить сестре Сулу, которая и так уже пережила достаточно потрясений, что она рассечена надвое и левая ее часть отсутствует. В эти первые секунды по пробуждении — или я все еще был в полусне? — я испытывал странное чувство: возможно, сестра Сулу такой и должна быть? Я помнил, как накануне она сказала, что всего лишь «наполовину обучена»; на мгновение я связал эти слова с ее внешностью. И тут неожиданно с огромным облегчением я обнаружил, что у меня началась одна из моих мигреней. У меня полностью исчезло левое поле зрения; вместе с этим, как временами случалось, возникло чувство, что слева не было (или и не могло быть) мира вообще. Во время сна появилась скотома14 вследствие мигрени; она и была физиологической основой отрицающей бомбы и странного исчезновения грушевого дерева, ограды и левой половины моей матери. Проснувшись, я воспринимал сновидение как реальность; точнее, то, что было реальным во сне, и не просто сцена, ситуация, символ, осталось в равной мере реальным и после пробуждения.