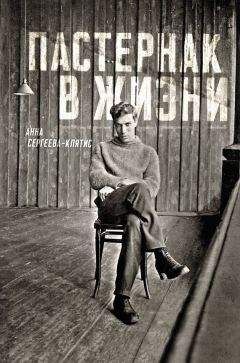Потеряв том «Освобожденного Иерусалима», а потом снова обретя его по возвращении в Петербург, Батюшков в деревне продолжает восторженно читать, перечитывать и переводить Тассо: «Я весь италиянец, т. е. перевожу Тасса в прозу. Хочу учиться и делаю исполинские успехи. <…> (скажу мимоходом, что „Иерусалим“ — сокровище: чем более читаешь, тем более новых красот, которые исчезают во всех переводах)»[118]. Но проходит всего два месяца и вдруг — разительная перемена. «Ты мне твердишь о Тассе или Тазе, — резко отвечает Батюшков на наставления Гнедича, — как будто я сотворен по образу и подобию Божьему затем, чтобы переводить Тасса. Какая слава, какая польза от этого? Никакой»[119]. Не стоит осмысливать это противоречие как проявление непостоянного характера поэта, чрезвычайно склонного к быстрой смене настроений. За внезапной вспышкой раздражения стоит продуманное решение. Окончательное разочарование Батюшкова в начатом им большом деле наступает не во время финского похода, а во время его хантоновского заточения. Инерция юности сменяется осмыслением своего собственного, индивидуального пути; не случайно в письме Гнедичу звучит этот бесспорный аргумент: создан по образу и подобию Божию, значит, существую отдельно от Тассо и его «Иерусалима», предназначен к чему-то более значительному, чем перевод. К чему?
Была ли к ноябрю 1809 года четко определена Батюшковым та поэтическая сфера, в которую он хотел себя вписать? Вероятнее всего, нет. Но некоторые, вполне очевидные подходы к самоопределению он уже сделал, и имя другого стихотворца, оказавшегося теперь более значимым для становления Батюшкова-поэта, уже было произнесено. Имя это — Петрарка.
«От Тассо к Петрарке — это биографически первый шаг, сделанный Батюшковым на пути к постижению итальянской культуры…»[120] — пишет один из исследователей. Однако правильно было бы сказать более широко. Словами «от Тассо к Петрарке» можно обозначить общее направление, в котором развивается Батюшков как поэт. Интерес к большой эпической форме в нем угас, сменился увлечением тонким лиризмом и малыми жанрами. Образцы того и другого Батюшков ищет на хорошо изученном им поле, которое, по понятным причинам, представляется ему достаточно плодородным — на поле итальянской словесности. Творчество Петрарки предлагает ему все необходимое. Жанр петраркистской «канцоны» оказывается вполне пригодной базой для обновления русской элегии. Первые подступы к поэзии Петрарки Батюшков делает еще во время финского похода. Возможно, именно тогда он выполнил свой первый вольный перевод из Петрарки — стихотворение «Вечер» мотивами и главным замыслом связано с 50-й канцоной. Тень Лауры, пролетающая над задумавшимся поэтом, которая появляется в финале «Вечера», у Петрарки, однако, отсутствует:
О лира, возбуди бряцаньем струн златых
И холмы спящие, и кипарисны рощи,
Где я, печали сын, среди глубокой ноши,
Объятый трепетом, склонился на гранит…
И надо мною тень Лауры пролетит!
Стоит внимательно вчитаться в эти строки, чтобы разглядеть в них знакомые образы: стихотворение «Воспоминание», посвященное рижскому роману Батюшкова и таинственной девице Эмилии, заканчивалось сходно. Очарованный мечтой поэт «слышит в ветерке» дыхание своей возлюбленной, а, подняв голову, в облаках над собою видит во всей обворожительной красоте ее тень. Без сомнения, «поэт еще тесно связан с чужим оригиналом, но… чужой текст уже служит материалом для выражения собственного чувства»[121]. Пока поэт склонен придавать героине своих стихов божественные черты «вечной возлюбленной» Петрарки, пока в каждом женском образе ему видится Лаура, но пройдет совсем немного времени, и прием будет отделен Батюшковым от поэтического источника, а образ — от прототипа. В одной из своих лучших элегий «Тень друга» (1814?) он с помощью сходных средств воссоздаст совсем иную ситуацию, по смыслу и описанию отстоящую далеко от петраркистского канона.
Помимо размышлений над жанром и содержанием своих стихов, Батюшков, по-видимому, приходит к некоторым выводам относительно языка поэзии вообще. И выводы эти выдают в нем уже сформировавшегося карамзиниста — по терминологии Тынянова, «новатора»[122]. Читая присланный ему Гнедичем фрагмент перевода «Илиады», Батюшков делает характерное замечание: «Перечитывая твой перевод, я более и более убеждаюсь в том, что излишний славянизм не нужен, а тебе будет и пагубен. Стихи твои, и это забывать тебе никогда не должно, будут читать женщины, а с ними худо говорить непонятным языком»[123]. Как известно, литераторы карамзинского толка сознательно ориентировали свои произведения не столько на читателей, сколько на читательниц — критерием вкуса служила высокая оценка образованной светской женщины, например, хозяйки аристократического салона. Стремление писать понятным, простым, разговорным языком, но и понятным, и простым, и разговорным в определенных, четко очерченных границах, открывало обширную перспективу для оттачивания стиля, для строгого отбора языковых средств. Именно по этому пути с осени 1809 года пойдет Батюшков.
Полугодие, проведенное в Хантонове, при всей его повседневной однообразности, жалобы на которую рассыпаны во всех письмах Батюшкова этого времени, оказалось чрезвычайно плодотворным. Изменения, подспудно подготовленные развитием поэтической биографии Батюшкова, произошли и были осознаны поэтом как новый этап.
Любые научные периодизации творчества всегда страдают излишней точностью — на самом деле практически никогда невозможно назвать дату, начинающую следующий виток. Но тот факт, что коренные перемены в творческом методе Батюшкова, а вернее, обретение этого метода произошли осенью 1809 года, не вызывает сомнений. И самым ярким свидетельством перемен стала сатира Батюшкова «Видение на берегах Леты», написанная в этот период. Поэт сразу послал ее на суд Гнедича и 1 ноября 1809 года осторожно осведомлялся: «Как тебе понравилось „Видение“? Можешь сжечь, если не годится. Этакие стихи слишком легко писать, да и чести большой не приносят»[124]. Однако настоящая известность Батюшкова началась именно с этих стихов.
Сатира, рожденная Батюшковым в его хантоновском затворе, действительно заслуживает пристального внимания. Она написана в традиции лукиановских «Разговоров в царстве мертвых» и посвящена весьма специальной, насквозь литературной ситуации, которая в целом укладывается в уже обозначенную схему противостояния архаистов и новаторов. Батюшков, к этому времени осознавший себя карамзинистом, высмеивает в «Видении» преимущественно своих литературных противников. Почему преимущественно, мы скоро увидим.