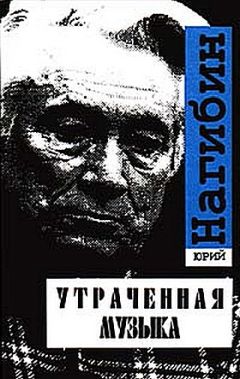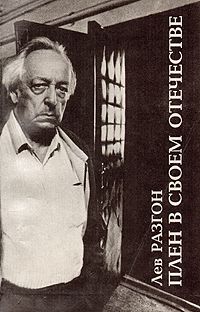Помоги, Господь, эту ночь прожить,
Я за жизнь боюсь – за Твою рабу…
В Петербурге жить – словно спать в гробу.
И бесконечно грустное обращение к жене:
Мы с тобой на кухне посидим,
Сладко пахнет белый керосин;
Острый нож да хлеба каравай…
Хочешь, примус туго накачай,
А не то веревок собери
завязать корзину до зари,
Чтобы нам уехать на вокзал,
Где бы нас никто не отыскал.
Кажется, Николай Чуковский видел их на Московском вокзале, где они сидели на кое-как завязанной корзине в ожидании дешевого пассажирского поезда.
Мандельштам уже согласен на Сибирь, но хочет уйти туда сам, чтобы пасть от руки равного, а не от века-волкодава, кидающегося ему на плечи,- сзади («За гремучую доблесть грядущих веков…»).
Органная эта мощь прозвучала у Мандельштама между двумя легкокрылыми печалями: «Я скажу тебе с последней//Прямотой://Все лишь бредни – шерри-бренди,//Ангел мой!» и «Жил Александр Герцевич,//Еврейский музыкант,-//Он Шуберта наверчивал,//Как чистый бриллиант».
До чего же ясно видел Мандельштам свою судьбу! В горчайшем стихотворении «Колют ресницы. В груди прикипела слеза…» он за семь лет до второго ареста и лагеря уже все знал:
С нар приподнявшись на первый раздавшийся звук,
Дико и сонно еще озирась вокруг,
Так вот бушлатник шершавую песню поет
В час, как полоской заря над острогом встает.
И в разгар этих провидческих наитий он вдруг пишет и печатает (!) невероятное по вызову стихотворение: «Я пью за военные астры, за все, чем корили меня», где дерзко перечисляет ценности прошлого, оставшиеся и поныне достоянием свободного мира: от музыки сосен савойских до
бискайских волн и сливок альпийских, от «роллс-ройса» до масла парижских картин,- веселый и наглый гимн европейской наполненности бытия. Ох и погуляла же критическая дубина по его лысеющей голове!
А ему и горюшка мало, «в нем росли и переливались волны собственной правоты» – высшее, чего может достичь художник. Он лишь просит Анну Ахматову сохранить его «речь навсегда за привкус несчастья и дыма». И она сохранит – навсегда.
В стихотворении «Полночь в Москве…» он, как будто отказавшийся от всякого современничества, точно определяет себя по времени: «Я человек эпохи Москвошвея, – //Смотрите, как на мне топорщится пиджак…//Попробуйте меня от века оторвать! -//Ручаюсь вам, себе свернете шею!» Тут нет противоречия: да, он над временем и он же во времени со всеми его малостями: клоунами Бимом и Бомом, медведем на бульваре (бедняга Топтыгин назван вечным меньшевиком природы), с бутылочной гирькой кухонных часов, но он не предает времени, ради которого «разночинцы рас-сохлые топтали сапоги». Он примет смерть, как пехотинец, но не прославит «ни хищи, ни поденщины, ни лжи». И он приказывает себе не хныкать, не жаловаться. Он это сумеет, ибо «человек эпохи Москвошвея» стоит над временем – для него эпохи взаимопроникаемы в городе, где «с дроботом мелким расходятся улицы», к Рембрандту в гости идет Рафаэль, не чающий с Моцартом души в Москве «за карий глаз, за воробьиный хмель».
Похоже, что петербуржец Мандельштам и сам не чает души в Москве, хотя у него находится для нее и немало жестких слов. В трех барочно избыточных стихотворениях он, как там ни крути, славит Москву, соблазняющую его «разбойником Кремлем», Воробьевыми горами и рекой Москвой «в четырехтрубном дыме» (МОГЭС); он приветствует молодых рабочих «татарские сверкающие спины» – «Здравствуй, здравствуй,//Могучий некрещеный позвоночник,//С которым проживем не век, не два!». Какая радость существования в этом задыхающемся, почти нищем, безбытном человеке, к тому же точно знающем свой конец.
То усмехнусь, то робко приосанюсь
И с белокурой тростью выхожу;
Я слушаю сонаты в переулках,
У всех лотков облизываю губы,
Листаю книги в глыбких подворотнях -
И не живу, и все-таки живу.
657
И как еще о многом надо ему сказать! Поражает многотемье этой поры – поэта распирает чувство сиюминутной жизни и тревожат тени предтеч: одарив Батюшкова дивной одой, он в другом стихотворении ласкает имена Тютчева, Веневитинова, Баратынского, Лермонтова, Фета и бородатого Хомякова. И вдруг, словно спохватившись, что забыл первую любовь, по-домашнему привечает Державина, а с ним и Языкова, неожиданно соединив эти имена. А там им завладевает Ариост – к итальянцам у Мандельштама особое отношение: Данте его кумир кумиров. Мировое литературоведение не знало ничего равного манделыптамовской большой статье (целой книге) об авторе «Божественной комедии».
Все еще во власти адриатических грез, Мандельштам попадает в Старый Крым. На страницах нашей печати не раз сетовали на заговор молчания вокруг страшной трагедии Украины – голода тридцатых годов, организованного Сталиным для уничтожения мелкобуржуазной стихии крестьянства. Это не так: не молчали А. Платонов и Б. Пильняк, не смолчал и Мандельштам.
Холодная весна. Голодный Старый Крым,
Как был при Врангеле – такой же виноватый.
Овчарки на дворах, на рубищах заплаты,
Такой же серенький, кусающийся дым.
Природа своего не узнает лица,
И тени страшные Украины, Кубани…
Как в туфлях войлочных голодные крестьяне
Калитку стерегут, не трогая крыльца…
По возвращении в Москву Мандельштам получил неожиданный подарок: комнату в писательском доме по улице Фурманова с готовым стукачом за стеной. Борис Пастернак, приглашенный на новоселье, простодушно порадовался за собрата: «Теперь, чтобы писать стихи, вам не хватает только стола». Никто не умел так раздражать Мандельштама, как Борис Леонидович, что не мешало ему написать лучшие слова о пастернаковской поэзии. Едва гость ушел, Мандельштам в яростном порыве разделался с щедрым даром, молчаливо требовавшим от него ответного поклона. Для этого ему не понадобилось даже стола:
Квартира тиха, как бумага -
Пустая, без всяких затей,-
И слышно, как булькает влага
По трубам внутри батарей.
…
А стены проклятые тонки,
И некуда больше бежать,
А я как дурак на гребенке
Обязан кому-то играть
…
Какой-нибудь изобразитель,
Чесатель колхозного льна,
Чернила и крови смеситель,
Достоин такого рожна,
Какой-нибудь честный предатель,
Проваренный в чистках, как соль,
Жены и детей содержатель,
Такую ухлопает моль.
…
И вместо ключа Ипокрены
Давнишнего страха струя
Ворвется в халтурные стены
Московского злого жилья.