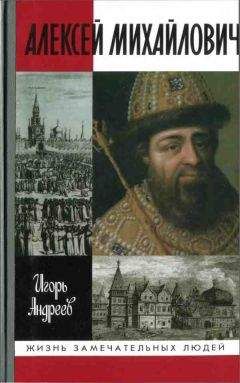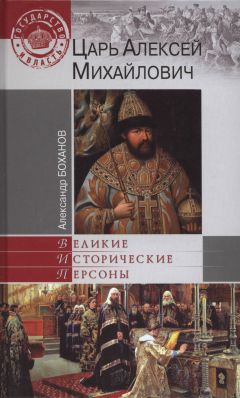Донос не сразу имел последствия. «Почитая архиерейский чин», царь велел сначала провести тщательный розыск. Обвинения были подтверждены. В декабре 1675 года перед церковным собором Иосиф должен был признать свои вины. В марте, уже после смерти Тишайшего, отправленному в монастырь Иосифу указано было молиться для поминовения души Алексея Михайловича[489].
Но если в случае с заносчивым и недалеким Иосифом правда все же оказалась на стороне Алексея Михайловича, то в истории с Соловецким монастырем дело обстояло далеко не так просто. Разумеется, с точки зрения феодального права происходившее под стенами обители Святых Зосимы и Савватия было вполне законным подавлением настоящего мятежа. Старцы были сами виноваты в случившемся. Сначала они отринули новопечатные книги и выбили из монастыря никонианского игумена. Затем довели распрю до вооруженного сопротивления, пускай и оказанного в ответ на силу. Но силу царскую, отчего их сила превращалась в силу мятежную. Тут, бесспорно, — бунт, монастырская тюрьма и виселица.
И все же положение царя оказывалось двойственным. Ведь одно дело — церковная распря, другое — ядра, летящие в обитель Божью. В этом смысле архимандриту Никанору, одному из вождей мятежа, было куда легче кропить на стенах святою водою «матушек-галаночек» — монастырские орудия, которым предстояло палить в царское войско. Сам этот символический акт превращал осаждавших в нечестивое антихристово воинство, а царя, наславшего его, — во врага церкви[490].
Связав борьбу с защитой истинной веры, соловецкие иноки естественным образом выдвинули вперед проблему немоления за царя, поддержавшего церковные реформы. Если доводить до конца их толкования, то благочестивый Алексей Михайлович превращался в царя-антихриста, вдвойне опасного из-за своего внешнего, ложного благочестия. Мы ничего не знаем о реакции Тишайшего на подобного рода заключения. Можно предположить, что она была бурной — даже у в общем-то благодушного Тишайшего мера терпения была не столь безгранична, чтобы пережить такую обиду.
Конфликт развивался неровно. То тлел углями, то озарялся пламенем старообрядческого радикализма. Долгое время в монастыре надеялись, что государь образумится и вернется к старому обряду. Резкие перемены произошли тогда, когда монастырь по указу лишился части своих владений. Алексей Михайлович определил свою позицию к бунтовщикам. Бунтовщики, в ответ, определили свою — они отменили общеобязательную молитву за царя. Со стен обители в адрес царя с тех пор стали раздаваться такие непристойности, что воевода Мещеринов отписал, что «не толко те их злодейственные непристойные речи написать, но и помыслить страшно». Формула, между прочим, обычная: выпады против государей часто прятались за неопределенные выражения типа «непристойные», «неистовые», «воровские» слова. Но когда добавляли, что «помыслить страшно», то это уже точно был край.
В 1669 году из молитвы было изъято конкретное имя — Алексея Михайловича — и восстановлена привычная формула моления о «благочестивых князьях», как это и было до Никона. Немоление превращало Алексея Михайловича в царя-антихриста. Ведь можно было, согласно Апостолу, молиться за царя неверного, но нельзя молиться за царя-антихриста или его служку[491]. В декабре 1673 года, когда радикализм достиг самого высшего градуса, немоление за царя дополнилось отказом и от заздравной чаши за царя и членов его семейства. Дело дошло до того, что из Синодика выскребли имя царицы Марии Ильиничны.
Правда, соловецкая братия не была столь единодушна в этом решении. Известны и отступления. Так, в последний год жизни Тишайшего, в день его именин, в Успенской церкви пели о царском здравии. В тот же день в трапезной случился пожар, который тут же был истолковал истовыми староверами как наказание за отступничество. Охотников именно так истолковать происшедшее, по всей видимости, оказалось с избытком. Не случайно старец Аввакум показывал: как на отпуске запоют многолетие за Алексея Михайловича, половина монахов из церкви выходит[492].
Взятие и разорение Соловецкой обители положило конец колебаниям — ибо колебаться попросту стало некому. Но зато радикализм, усиленный слухами о страданиях соловецких мучеников, щедро выплеснулся за монастырские стены. Антиправительственные настроения среди старообрядцев резко усилились. Хронологическое совпадение двух событий — смерти Тишайшего и взятия царскими войсками Соловецкого монастыря — тут же было истолковано соответствующим образом. Смерть Алексея Михайловича «в канун дня Страшного суда» — Божье наказание неблагочестивого царя, царя-отступника…
Мятежные Соловки — лишь одна из «заноз», которую пришлось с мясом вырывать Алексею Михайловичу в последние годы своей жизни. Еще одна, не менее неприятная и болезненная, — боярыня Феодосия Прокофьевна Морозова. Происходила она из второразрядного московского рода Соковниных и была в родстве с царицей Марией Ильиничной Милославской, которая к ней всячески благоволила. Благоволил к ней и Алексей Михайлович: ведь Феодосия Прокофьевна была супругой младшего брата его «дядьки», боярина Глеба Ивановича Морозова.
Боярыня Морозова стала ярой противницей церковных нововведений. Овдовев в 1662 году, она — завидная и богатейшая невеста — не стала вторично выходить замуж и предалась подвигам благочестия. Ее дом превратился в прибежище для всех сторонников старой веры. Вернувшийся из сибирской ссылки протопоп Аввакум несколько месяцев жил у своей духовной дочери, почитавшей и во всем слушавшей своего духовника. Несомненно, именно протопоп привил боярыне ту истовость и фанатизм, с какими она стала отстаивать «правые догматы».
В Кремле смотрели сквозь пальцы на чудачества Морозовой. Во-первых, из-за царицы, во-вторых, из-за памяти, которую царь питал к Морозовым, в-третьих, из-за того, что Феодосия Прокофьевна была, по-видимому, не одна такая: при дворе имелись и другие приверженцы двуперстия. Требовалось, однако, соблюдение некого приличия — не бравировать своими убеждениями, не кичиться ими, на людях по-старому открыто не молиться. Морозова до поры до времени так себя и вела. Но после ссылки на Мезень Аввакума она осмелилась бросить открытый вызов церковным властям и двору. Перестала являться на службы, причем ссылаясь не на нездоровье — вот лазейка! — а на то, что службы служат никоновские попы.
По царскому слову вразумлять строптивую вдовицу были посланы архимандрит Чудова монастыря Иоаким (будущий патриарх) и Петр ключарь. Морозова не исправилась, и летом 1665 года указано было отписать на царя часть вотчин вдовы. Жесткая мера, по-видимому, внесла известный диссонанс в семейную жизнь Алексея Михайловича. Во всяком случае царица не отказалась от мысли заступиться за свою боярыню. Подходящий момент наступил в октябре 1666 года, когда только что разрешившаяся от бремени царевичем Иваном Мария Ильинична попросила вернуть Морозовой часть московских вотчин ее мужа. Алексей Михайлович не посмел противиться, и просьба была уважена.