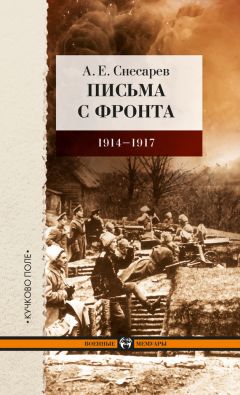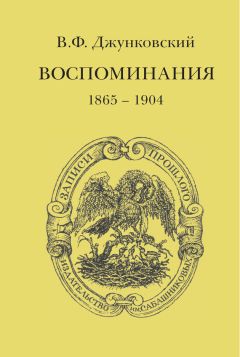Ознакомительная версия.
Я рад за папу с мамой, что они живут «хорошо, а едят иногда очень обильно и вкусно». Иметь возможность теперь есть сносно (не говоря уже про обилие) – дело самое первое. Шульгин правильно говорит в своей газете, что скоро все мы будем повторять слова вечной молитвы: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь».
Я со своим домом все стою на тех же местах; вчера у нас была служба в малюсенькой, но очень уютной церкви; солдат была масса, пел маленький хор (шесть чел[овек]) простые напевы, но благодаря хорошим голосам (особенно один бас) пели славно и трогательно. Вообще, ребята начинают поворачивать к Богу, догадываясь, что без него ровно ничего не выходит: ни победы, ни порядку, ни духовного покою. По вечерам, когда тухнет заря, я вновь начинаю слышать «Отче наш», которое поют роты, собравшиеся на поверку. А то ведь по первоначалу (это мне доложено только на днях, когда уже стали петь) молиться отказались – это старый, мол, режим. Не идиоты ли! Я приказал сказать, что все мы, и наши дети, и наши внуки давно будем гнить в земле, а этот режим – Слово Божие – будет также раздаваться по церквам и полям, как он несется теперь, как он несся сотни лет назад… не старый, а вечный режим. На полях приступают к уборке кукурузы… последнее слово жатвы.
Давай, золотая моя, твои губки и глазки и наших малых, я вас всех обниму, расцелую и благословлю.
Ваш отец и муж Андрей.
Целуй Алешу, Нюню и деток. А.
Вчера с нами обедал один генерал и дивился нашей застольной дисциплине: офицеры раньше меня не сядут, курят по разрешении, раньше выходят – спрашивают моего разрешения и т. п. Он все удивлялся: «А у нас (в другой дивизии) всякий сам по себе: курит, уходит…» Я мог только ответить: «Вы, генерал, прогрессивны, а мы – народ ретроградный». А.
Я все жду, не черкнет ли мне что-либо Нюня про твое состояние и про твое поведение… по твоим словам, ты все бегаешь; как бы ты не забежала слишком вперед. Скажи-ка Нюне. А.
31 августа 1917 г.Дорогая моя женушка!
Твое последнее письмо от 19.VIII я должен сейчас перечитать еще раз, чтобы вспомнить, так быстро и рассеянно я прочитал его сегодня утром. Ты живешь еще сведениями об обществен[ном] заседании в Москве, между тем как нас жмут уже новые события, более сильные и более грозные. Ты поймешь мое настроение, настроение человека, который неясно (или почти совсем не) представляет, что сейчас происходит, особенно под углом военным. До нас доходит «Киев[ская] м[ысль]», но это с военной точки зрения что-то дикое по военной безграмотности. Она берет сведения отовсюду без проверки, без специального критериума. В одном и том же номере кавалерия Корнилова подходит к Луге, а его обозы и «почта» в Гатчине. Каким это он порядком идет на Петроград, что это за отдел или часть колонны, называемая «почтой»! Из такого сумбура никак не выберешь приличного вывода. Одно только ясно, что все трусят страшно, мечутся как угорелые, а это не способ защитить свои идеи и связанный с ними порядок вещей. Сегодня же из газеты узнал, что Вирановский был уже удален Корниловым из корпуса, а теперь он принял место начальника штаба Киевского военного округа вместо удаленного Оболешева (последний одного со мною полка, но дрянь страшная, начиная со слабости к мальчикам). Газета прибавляет, что Корнилов прогнал Вирановского за его приверженность к армейским организациям, а между тем он о них иначе как с красным русским словом и говорить не мог… И откуда это газеты собирают подобный мусор: Вирановский – поклонник армейских организаций!
Ты уже знаешь, что арестован Эрделли, отнявший у меня когда-то 64-ю дивизию, скоро получивший корпус, еще скорее армию, чин полного генерала, потом «удаленный», потом «убитый» и теперь упразднивший под арест… очень сложно.
Письма 2–3 пред этим я тебе писал про намеченного тобою кума, чтобы его звать, если он и упадет; это, дорогая, не первое из моих пророчеств… увы, при знании истории и вообще при запасе знаний пророчествовать теперь не трудно. Хороши у вас будут члены в городской управе, если они будут напоминать указанных тобою двух экземпляров – портного и сапожника… лихая будет управа и лихо она заработает.
Характерны думы и взгляды наших православных по поводу хода Корнилова: те, что на легком труде, телефонисты, писари, члены комитетов ругательски его ругают. Когда разбираешься, почему, то 1) из подражания газетам, как контрреволюционера и 2) – это глубже и естественнее – как введшего смертную казнь. Те же, кто держится около окопов, разбросались в своих настроениях; как виновника смертной казни, ругают многие его и в этой группе, другие течения разнообразны и причудливы; вот тебе к примеру: а) Корнилов – это второй Ленин; он не бежал, а его нарочно выпустили, а теперь он и работает для германцев; б) Есть такие, у которых заговорил в душе Стенька Разин и которые заинтригованы смелостью и удалью попытки. «А кто с ним пошел-то? А далеко он еще до Петрограда?» – этими вопросами они одолевают всех, кто может им объяснить. Они же чаще всего и повторяют: «Ну и покажет он большевикам! Наклепает он Керенскому по первое число!» И т. п. в) Немало думающих, что Корнилов пошел защищать Россию от «большевиков» и от «жидов»… почему они спаривали партию с нацией – это секрет их наивного миросозерцания. Среди этой группы попадаются восторженные поклонники Кор[нило]ва, которые говорят, что на него надо молиться… Вот тебе, золотая моя, шкала настроений, целая гамма, отражающая бездонное море темноты, исканий и стуканий лбами. Да и все ли я еще заметил?
Относительно Гени ты мне все еще не пишешь, так что я не знаю, получила ли ты мои письма, в которых я высказывал мысли против его взятия в Петроград.
Сегодня выезжал верхом в поле посмотреть занятия одного из моих полков; ребята мне и видом, и ответом понравились, пришлось похвалить. Насчет подробностей (я участвовал на ученьи одной роты) пришлось и объяснять, и ругаться.
И еще эти дни я не один раз вспомнил твою мысль: «Я бы хотела порою, чтобы тебя забыли». Меня сейчас, с моей маленькой дивизией, находящейся на покое, действительно забыли, и буря прошла мимо нас, засыпая нас разве только листвою с осыпающегося леса. Сейчас 19 1/2 часов, но я уже дописываю тебе это письмо при свечке. В комнате моей полутемно, полутемно и у меня на душе. Давай, моя ненаглядная, твои глазки и губки, и наших малых, я вас всех обниму, расцелую и благословлю.
Ваш отец и муж Андрей.
Целуй Алешу, Нюню, деток. А.
2 сентября 1917 г.Дорогая моя женушка!
Получил твои письма от 21, 21 и 22 авг[уста] и от 31 июля в письме Валериана Ивановича. Относительно последнего я сбит с толку тем, что и ты, и он говорите о штабе, а не о полках, а между тем в штабе все имеющиеся вакансии занимаются прапорщиками, подпоручиками, и только Агапитов – штабс-капитан, а Вал[ериан] Иванович только по недоразумению поручик и не сегодня-завтра будет штабс-капитаном или капитаном. Поместить его на какое-либо место в штабе будет для него и слишком низко, и слишком неинтересно. Да едва ли после долгой педагогической деятельности он будет удовлетворен бумажной штабной работой. Напиши ему и выясни этот вопрос. Другое сомнение, возникающее у меня в связи с его просьбой, в том, что я-то едва ли долго останусь на 159-й дивизии, а уже после 6 декабря (когда В[алериан] И[ванович] только освободится от школы) много шансов, что не буду. Я бы мог определить его в один из полков на должность командира батальона, понаблюдать за ним и поддержать его положение. Если он наляжет, то может получить 1–2 чина, а тогда его можно было бы провести в помощники командира полка. Напиши, пожалуйста, все это В[алериану] Ивановичу, и как он решит, так и сделаем. Мне, к сожалению, психика его просьбы не ясна: может быть, за долгим стоянием вне строя его уже не тянет в таковой, может быть, он не хочет служить в строю при теперешней обстановке, и поэтому его тянет в штабную обстановку плюс туда, где я. Это очень существенная сторона дела. Под огнем, насколько помню, он себя держал прекрасно, но бывает, что по получении Георгия с людьми происходит перелом, и притом с людьми хорошими и храбрыми. Повторяю, его душа для меня темна, и мое решение в вопросе поэтому неустойчиво.
Ознакомительная версия.