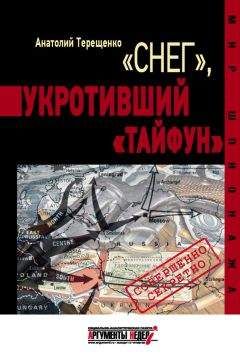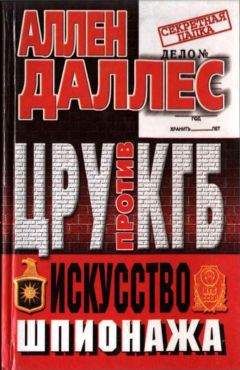В соответствии с этой версией событий Троцкий оставался этаким духом-искусителем.
Занимались мы также историей философии. Вводный курс мировой философии был блестящим, и после него мы полгода штудировали философов Греции и Рима. Но марксистская философия была явной чепухой, и ничто не могло скрыть, что Ленин — философ никудышный: его единственная философская книга «Марксизм и эмпириокритицизм» была безликой и отнюдь не оригинальной, а вторичной, ее значение искусственно раздувалось.
На третьем или четвертом курсе мы вполне уже постигли мерки советской жизни. Знали правила, понимали, как себя вести; что касается меня, то, проявляя должный интерес к занятиям, я настойчиво пытался понять, что происходит в действительности. В квартире у родителей было полно политической литературы, издававшейся в двадцатых и тридцатых годах, и я, читая ее, понимал, насколько фальшива и несостоятельна нынешняя официальная пропаганда.
Немецкий язык давался мне легко, и, быстро продвигаясь в его изучении, я принялся читать книги бывших офицеров вермахта, попавших в плен во время войны и проведших в Советском Союзе годы с 1943-го по 1947-й. Это привело к еще одному источнику прозрения — западногерманским газетам. Был такой уникальный период в Советском Союзе, когда студентам разрешалось читать в институте западные газеты и журналы. Позже такие издания были запрещены, но мне посчастливилось обучаться в «открытый период», и я с жадностью поглощал все — будучи одним из немногих в Советском Союзе, кому это было доступно.
Постепенно я начал понимать, что Запад — это другой мир. Там все было иначе. Совершенно иные политическая и социальная системы, равно как и моральные ценности. Открытый доступ к средствам массовой информации позволял видеть Запад как бы другой планетой. Только в возрасте двадцати лет я начал понимать, что постигаю этот неведомый доселе мир. На протяжении всей предшествующей моей жизни советская пропаганда упорно твердила, что самое совершенное общество в нашей стране, что Советский Союз идет единственно правильным путем. Капиталистический мир с его циклическими кризисами в экономике — это мир эксплуатации, насилия, агрессии. Капиталисты, мол, ввели изощренную систему эксплуатации рабочего класса. А их хваленая демократия — не более чем красивый фасад, скрывающий зло и насилие. Я начинал осознавать, что все это ложь, что дело обстоит совсем иначе. Пропаганда твердила: «У нас мир разума, у них мир безумия», но, читая западногерманские газеты, я понимал, что в действительности все как раз наоборот. Открытие было ошеломляющим, но таким опасным, что я никому не решался говорить об этом. Все, что я мог себе позволить, чтобы расширить мои скудные познания о Западе, это слушать иностранные радиостанции. Радио «Свобода» глушили шумами с радиовышек, установленных вокруг Москвы, но мне иногда удавалось поймать «Голос Америки» или службу информации Би-би-си. Наше радио тогда было технически несовершенным, и приемники, выпускаемые в Советском Союзе, имели коротковолновый диапазон не ниже 25 метров, а вещание на волнах 21, 19 и 16 метров, которые обычно использовали европейские станции, было недоступно. Можно было использовать другие волны, например, 49, 41 и 25 метров, но их так глушили, что понять ничего было нельзя. Однако, напрактиковавшись, я обнаружил, что передающие станции незаметно переключаются с одной волны на другую, и операторы КГБ глушат пустой воздух, пока не пройдет сигнал и не зафиксируется на шкале.
Почему многие мои современники не отозвались на этот первый зов правды, реальности, я не знаю. Могу лишь думать, что на свое великое счастье я начал изучать немецкий, а это дало мне возможность читать западные газеты, журналы и книги.
В конце второго курса на доске объявлений появилось сообщение: «Желающим изучать второй язык предлагается подать заявку в деканат». Я в то время очень боялся английского. Страх мой носил иррациональный характер и объяснялся собственной неосведомленностью: я считал, что язык этот невероятно труден и мне его не одолеть. Произношение казалось трудным, а конструкции совершенно не похожи на немецкие, которые были мне столь милы, как и вообще немецкий язык. Тем не менее я подал заявку, понимая, что рано или поздно мне придется заняться английским языком.
Недели через две из деканата сообщили, что желающих изучать английский оказалось очень много, и администрация сама произвела отбор, неизвестно уж по какому принципу. «Вы, Гордиевский, — сказала секретарь, — можете выбирать между чешским и шведским». Поскольку у меня были друзья среди чехов и словаков, я тут же выбрал чешский, тем более что уже занимался самостоятельно по учебнику.
Брат мое решение не одобрил. Он в то время как раз готовился к работе в КГБ и уже достаточно знал реальность, чтобы дать мне разумный совет. «Не будь идиотом! — рявкнул он. — Если ты выберешь чешский, то всю жизнь просидишь в жалких консульских отделах Праги и Братиславы и больше ничего в мире не увидишь. Занимайся шведским! Во-первых, Швеция — хорошая страна, а во-вторых, это дорога в другие страны Скандинавии. Оттуда можешь поехать в любое место в Европе».
Василько всегда был куда большим циником и материалистом, чем я. Намного старше меня, он рос среди мальчишек, ожесточенных войной, и думал только о карьере, в то время как многие мои сверстники были скорее идеалистами и дорожили духовными ценностями. Но эти слова брата изменили мою жизнь. Я выбрал шведский — и последствия оказались непредсказуемыми. Нельзя сказать, чтобы я с увлечением занимался вторым иностранным языком — шведский преподавали плохо, в отличие от норвежского, который вел отличный преподаватель. Учебных часов отводилось недостаточно, хотя курс был чрезвычайно насыщенный. В результате я так и не овладел шведским на должном уровне, хоть и очень стремился к этому.
Гораздо более продуктивными были полугодовой курс западноевропейской литературы, включавший занятия английским языком, и введение в экономическую географию европейских стран. Одной из книг, с которой я познакомился в связи с этим, были «Путешествия Гулливера», книга настолько увлекательная и остроумная, что я читал вслух отрывки из нее друзьям и матери. Позже в Англии, трижды перечитав книгу по-русски, я купил английское издание, чтобы сравнить русский перевод с оригиналом. Грубоватый юмор Свифта пришелся мне по душе, не в последнюю очередь благодаря истории о слепом академике, который наставлял своих учеников в искусстве определять цвета при помощи обоняния и вкуса. Немало я веселился, читая о человеке, который пытался воспроизвести природные продукты — зерно и овощи — из человеческих экскрементов; Гулливер, от лица которого ведется повествование, так отреагировал на приветствие экспериментатора: «Когда меня ему представили, он очень крепко обнял меня (любезность, от которой я охотно бы уклонился)».