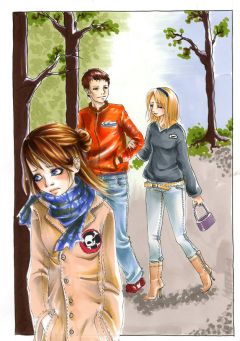Началось легкое обледенение. Я решил подняться выше, чтобы идти над облаками, но чувствую, что самолет высоту не набирает. Мощность моторов почему-то постепенно падает, и мы даже понемногу снижаемся. Вдруг вижу, секторы газа отходят назад. Такое бывает только тогда, когда в кабине штурмана убирают газ (там находится дублированное управление самолетом и моторами).
Штурман, — кричу, — не трогай газ!
— Какой газ? — недоумевает Рогозин.
— Не трогай секторы газа, зачем убираешь газ?
— Да я лежу впереди и смотрю вниз, не появятся ли окна в облаках. Секторы позади меня.
И ведь верно. Тогда кто же убирает газ?
Я послал секторы вперёд, но они не идут. Отпустил — снова отходят, и мощность моторов соответственно падает. Что за чертовщина?
Самолет снижается, облачность всё гуще, начинается обледенение. Включил антиобледенитель — никакого эффекта. Появилось чувство беспомощности, самое опасное для летчика. Что делать? Наверх не выбраться, а высота нижней кромки облаков неизвестна. Пока пробьешь их, можно обледенеть, как костяшка, и упасть.
— Да долго ли ты будешь шутить со мной? — обращаюсь я к воображаемой «нечистой силе» и рывком толкаю секторы газа вперёд. Впечатление такое, будто что-то оборвалось, секторы подались, моторы взревели. Полет продолжался, и мне стало как-то неловко перед собой от недавней растерянности. Моторы работали нормально, домой мы пришли благополучно.
На аэродроме я сказал технику, что секторы газа в воздухе заедало, и надо проверить всю систему.
На следующий день злоключение повторилось. Я выразил недовольство работой техника, хотя знал Котова как человека добросовестного.
Через несколько дней мне пришлось лететь на другом самолете в район Демянска — и снова та же беда. Не могло случиться, чтобы на двух разных самолетах оказалась одна и та же неисправность, тем более что обнаруживалась она только при полете в облаках.
Гадали, гадали, но так ничего и не придумали. Затем «нечистая сила» шутить перестала, и о неприятных эпизодах почти забыли.
Спустя некоторое время, кажется, в июне, это явление повторилось в массовом порядке. Летчик А. Гаранин на КП докладывал о неисправности в самолете — заело секторы газа, и он еле дошел домой, так и сел на малой мощности. Оказалось, что он не одинок, то же происходило и у Борисенко, Клебанова, Краснухина и других.
Большая загадка. И разгадать её взялся инженер-полковник Дороговин. Он с пристрастием расспрашивал всех: и как вёл себя самолет, и какая была обстановка, и что пытался предпринять летчик. И тут я ему подробно рассказал о случае на моем самолете еще в апреле, о «нечистой силе», которая со мной пошутила, о рывке… И он очень серьезно отнесся к моему рассказу о рывке секторов.
— Ну, а теперь мне нужно обработать информацию. Мне нужно крепко подумать, — сказал в заключение Дороговин и ушел.
Он не сомкнул глаз до утра: ломал голову над разгадкой этого необычного явления, а на второй день на разборе полетов дал теоретическое обоснование загадочного явления и его предотвращения. Оказалось, это не что иное, как обледенение карбюратора. Переохлажденный влажный воздух с большой скоростью попадает в карбюратор, стенки диффузоров обледеневают, сечение уменьшается, мощность падает. Автомат срабатывает, чтобы увеличить сечение, но заслонка примерзла, и действие автомата передается на секторы газа — они отходят назад. Рывок секторов помог сколоть лед в диффузоре, и мощность восстановилась. Если же опоздать и дать заслонке сильно примерзнуть, тогда никакие силы не помогут, скорее можно порвать тягу управления газом.
В дальнейшем мы так и боролись с «нечистой силой»:.начинает заедать — двигаешь рывком секторы вперёд-назад, затем быстро возвращаешь их в прежнее положение.
Вот теперь почти всё об апрельских полетах. Должен только добавить, что апрельские полеты научили еще и сажать самолеты на узкую бетонированную полосу. Редко кто до этого мог посадить самолет так, чтобы он не скатился с полосы. Но скатиться с неё в апреле! Это значило бы получить капот, то есть перевернуть самолет через нос на спину или поставить его на нос и тем самым задержать посадку других.
И представьте себе, ночью, при плохой видимости, порой с боковым ветром ни разу ни один самолет при посадке не скатился с полосы за всё время работы при размокшем поле аэродрома.
Многому нас научили апрельские полеты…
Апрельскими полетами заканчивается зимний период боевой работы полка. В основном вся боевая работа велась в интересах обороны Москвы, в которой наш 748-й полк занимал не последнее место. Вот что пишет об этом А. Г. Федоров в своей монографии «Авиация в битве под Москвой»[11]: «Наибольшей эффективностью бомбовых ударов выделялся 748-й дальнебомбардировочный авиационный полк под командованием майора Н. В. Микрюкова. С переходом наших войск в наступление на Ржевском направлении полк разрушал узлы сопротивления противника и уничтожал его авиацию на аэродромах. Поддерживая наступательные действия Калининского и Западного фронтов на направлении Ржев, Сычевка, Вязьма, полк за период с 14 января по апрель произвел около 800 самолето-вылетов. Систематическими бомбовыми ударами он нарушал железнодорожные перевозки на участках Ржев — Вязьма, Вязьма — Гжатск и препятствовал переброске резервов противника к линии фронта. Полк наносил последовательные удары по железнодорожным узлам Витебск, Смоленск и Ярцево через каждые 4–5 дней. В дни интенсивных перевозок эти узлы бомбардировались ежедневно. Железнодорожный участок Витебск — Смоленск — Ярцево за несколько месяцев до 40 раз подвергся бомбардировке полком».
Всего за период с половины января по апрель полк совершил свыше 900 боевых вылетов. На моем счету за этот период — 52 боевых вылета, из них 21 дневной.
Незаметно подошел май — прекрасная весенняя пора. В природе всё живое пробуждалось от зимней спячки, радовалось теплу, солнцу а у меня на душе кошки скребли, одолела тоска по семье.
Я вспоминал, как мы с женой любили гулять в эту пору в степи, замечать появление первой зелени, первых цветов, подставлять лицо ласковому майскому ветерку. Вспоминались последний предвоенный Первомай, праздничная демонстрация на Красной площади, оживленные лица москвичей…
Гоню прочь грустные мысли о семье, пытаюсь вспомнить всё хорошее, вспомнить жизнерадостную, улыбающуюся жену, но такое лицо её почему-то «спрятано», не вспоминается. Страшно стало… Осталось в памяти выражение лица такое, каким оно было в день провожания, на вокзале, и ничем его не подменишь, не устранишь. Этот образ преследует меня, усиливает тоску…