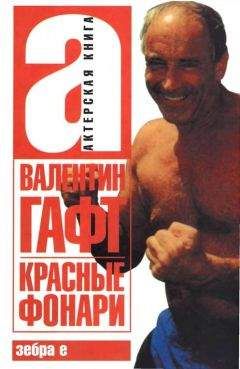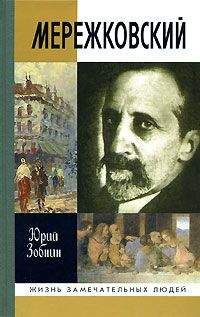Это, кстати, вполне соответствует его натуре, мало подходящей к работе профессионального подпольщика-конспиратора, неизбежно предполагающей в исполнителе некоторую долю цинизма и "нравственной эластичности". Таковым был даже Ю. П. Герман, которого В. Крейд справедливо считает наиболее близким по характеру к Гумилеву из всех "таганцевцев"[133]. Но и этот "конквистадор в панцире железном" в минуту откровенности вдруг обнаруживал малоприятную смесь бравады, мелодраматической истерии и какого-то болезненного нравственного декадентства в словах и поведении:
— Что-то в мире сломалось, и исправить нельзя. Веры нет… Вот я контрреволюционер, за контрреволюцию рискую по десять раз в день головой, за нее, вероятно, и погибну. Что же, думаешь ты, — я в контрреволюцию верю? Не больше, чем они — в революцию. И все-таки они победят. А мы… Что же ты не пьешь коньяку? — перебивает он сам себя. — Икру ешь. Дай, я тебе намажу. Папирос бери с собой, больше бери, — по пайку таких не получишь. Жаль, что уже надо расставаться. Выйдем вместе — только из ворот в разные стороны[134].
Гумилева в такой ситуации представить сложно.
Да и не стал бы Гумилев взрывать памятники, подкидывать толовые шашки под праздничные трибуны, втираться в доверие, стрелять из-за угла, казнить провокаторов и т. п. А без всего этого — какое же подполье? Следует полностью согласиться с характеристикой, прозвучавшей в одном из некрологов 1921 года: "Гумилев — и участие в заговоре, — это все равно что Зиновьев — и вызов на дуэль. Гумилев мог ехать в Африку охотиться на львов; мог поступить добровольцем в окопы, мог бы, если бы до того дошло, предупредить Зиновьева по телефону, что через час придет и убьет его, но Гумилев — заговорщик, Гумилев — конспиратор — неужели мы все сошли с ума?"[135]
И если рыцарь послан в край далекий,
За верность, честь и правду в бой вступить…
"Похоже, что и большинство рядовых чекистов, которые вели "дело ПБО", представляли себе роль знаменитого фигуранта таким же образом. М. Л. Слонимский вспоминал, что в конце двадцатых годов "сын поэта Константина Эрберга Сюнерберг", работавший в музее ГПУ, показывал ему имеющиеся в музее материалы о Таганцевском заговоре: "Он показал мне схему заговора, составленную ЧК по показаниям арестованных. Гумилеву отводилось, помнится, самое второстепенное место — работа среди интеллигенции, где-то на периферии"[136]. "Дело Гумилева" явно не воспринималось ПетроЧК украшением собственной истории. Недаром столь настойчива в гумилевских апокрифах 1930-х годов, распространяемых среди "вольняг" и заключенных, как это было тогда принято, агентурой с Литейного, 4, тема постоянно присутствующей "руки Москвы", упоминание о настойчивом давлении на петроградских чекистов со стороны Дзержинского, Менжинского, Уншлихта и т. д. Везде проскальзывает некий мотив, не скажем — пилатовский, а скорее — годуновский, в шаляпинско-оперном духе: "Не я, не я твой лиходей…". Нет, не гордилась ПетроЧК гумилевским расстрелом и вспоминать о нем не очень любила. Как чекисты начала 1920-х, относились к своей миссии в гумилевской эпопее без особого энтузиазма, а как к достаточно неприятной обязанности, — так и их преемники в последующие эпохи советской истории вспоминали о событиях на Ржевском полигоне, так сказать, без огонька в глазах. Особого почета — даже среди своих же коллег — деяния в этой области не сулили.
Однако Гумилев был расстрелян. Мало того, именно Гумилев и члены "профессорской группы", а не лидеры и боевики ПБО оказались главными действующими лицами "Таганцевского заговора" в последующих советских исторических интерпретациях трагедии 1921 года.
Почему?
Расхожий ответ на этот вопрос многих, даже вполне компетентных, гумилевоведов до сих пор основывается на мнении о поголовной патологической кровожадности сотрудников ВЧК, расстреливавших без разбора всех, кто по каким-то причинам оказывался в поле их зрения. Более "умеренная" (и более доказуемо корректная) версия того же ответа указывает на практику бессудного расстрела заложников в годы "красного террора".
Однако связь "Таганцевского дела" именно с "красным террором" (если понимать последний не как метафору, относящуюся ко всему периоду правления коммунистического режима в России, а как конкретную историческую данность) очень проблематична, и профессиональные историки, обращавшиеся к "делу ПБО", прекрасно понимают это. М. Петров, например, указывал на то, что расстрел "таганцевцев" "не следует увязывать с красным террором. Еще 17 января 1920 года ВЦИК и СНК приняли постановление об отмене смертной казни"[137]. "…Как раз в 1921 году заговорщиков могли и не расстрелять! — пишет о том же Д. Фельдман. — Постановлением ВЦИК и Совнаркома от 17 января 1920 года высшая мера наказания в ряде случаев отменяется: "…Революционный пролетариат и революционное правительство Советской России с удовлетворением констатируют, что разгром вооруженных сил контрреволюции дает им возможность отложить в сторону оружие террора"[138].
Другими словами, в январе 1920 года вполне определенная, закрепленная в соответствующих постановлениях советского правительства методика классовой борьбы, получившая название "красный террор", была постановлением же советского правительства отменена. Это, кстати, не было следствием нравственного просветления в умах коммунистических лидеров, а явилось вполне объяснимой политической необходимостью.
Все дело в том, что "красный террор" применялся как элемент политики РСФСР, стратегической целью которой в 1918–1919 годах был экспорт мировой революции в крупнейшие европейские страны, прежде всего — в Германию, переживавшую после поражения в Мировой войне и унизительного, разорительного для ее экономики Версальского мира кризис, порождающий, как известно, "революционную ситуацию". Большевики, захватив с лета 1918 года единоличную власть в стране и создав III Интернационал, превратили Москву в "штаб мировой революции" и вплоть до 1920 года стремились экспортировать русскую революцию в Европу. 7 ноября 1918 года социалистической республикой была провозглашена Бавария, 10 января 1919 года — создана Бременская Советская Республика, а в Берлине шли бои между боевиками "Красного фронта" Карла Либкнехта и Розы Люксембург и правительственными войсками. 21 марта 1919 года Советской республикой стала Венгрия. И хотя на этом натиск III Интернационала захлебнулся и советские режимы в Европе были подавлены, страх перед возобновлением "мировой революции" заставил страны "большой Антанты" (прежде всего — Францию) перейти к политике жесткой политической и экономической блокады РСФСР.