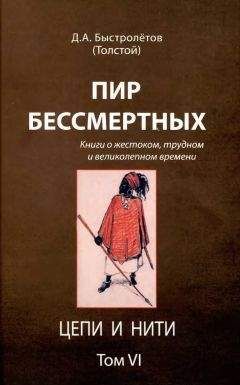— Ужас происходил от неуверенности, от непонимания, что делать. Чувство растерянности — отвратительное чувство, его я особенно ненавижу.
Анечка стала печально собирать свои документы.
— Я была арестована неожиданно: из разговоров с провокатором мне были неясны намерения гэпэушников. Начались допросы, рёв, мат, оскорбления и угрозы. Пытка игрой на нервах, пытка усталостью. Но по характеру вопросов я поняла, что у следователей нет плана в отношении меня, что они нащупывают возможность сколотить большое групповое дело, а я, как бывшая лагерница, им нужна только как отправное звено. Особенно их интересовали директор и всё руководство завода. И я поняла: угроза идёт с двух сторон — мне шьют групповое преступление и политику. Отсюда спасение: признаваться в одиночном преступлении и не по 58-й статье. Раз арестовали, то теперь жизни не дадут, и надо получить как можно меньший срок, и по бытовой статье.
Но как это сделать?!
В самый тяжёлый момент сомнений, нерешительности и растерянности меня вдруг освободили. Я вернулась домой полуживая. Соседка уже успела обокрасть меня, на заводе моё положение сделалось невыносимым, но из разговоров с разными людьми я вдруг поняла, где выход: у начальника лаборатории со всех сторон мужчины просят спирт. Просят нудно, настойчиво, мерзко… А что, если признаться в продаже спирта?! Я твёрдо отвергла приставания племянницы директора насчёт недовольства советской властью, но намекнула несколько раз о спирте и возможности хорошо заработать. Через месяц меня опять арестовали. Я гладко призналась в торговле спиртом на тамбовском базаре. На суде свидетели с пеной у рта доказывали, что этого никогда не было и не могло быть, что все книги записей и учёта опровергают это. Меня спасали изо всех сил, но я упорно признавалась в продаже одной бутылки спирта в целях личного обогащения, и по указу от 4 июля 1947 года получила семь лет как бытовичка, как друг народа. Слушатели и свидетели на суде недоумённо пожимали плечами, судьи и гэпэушники были довольны, но всех счастливее была я — поддержала начинание партии и правительства и включилась в массовый забой, при этом обеспечив себе максимум возможностей остаться в живых!
Я подхватил её мысль.
— Когда я, Анечка, вернулся из спецобъекта в Сибирь, то в Тайшете встретил бывших сиблаговцев и присутствовал при ежедневном прибытии в лагерь старых сусловских знакомых, которые отсидели срок по ежовскому и бериевскому наборам, освободились и теперь возвращались в лагерь по абакумовскому набору. Помнишь, Анечка, юриста, который заведовал вещевой каптёркой за зоной? Он освободился в Суслово, привезли его по второму набору в Тайшет, так сказать, по принадлежности — сиблаговца к сиблаговцам!
— Но меня послали не в Тайшет, куда собирали контриков, а на строительство Волго-Донского канала, куда подвозили бытовиков и шпану. Наши пути разделились: ты оставался врагом народа, а я перешла в разряд повыше, в воры, в друзья народа.
Анечка закрыла лицо руками.
— Ну, а что же было на канале имени В.И. Ленина? Да ты не дёргайся и не спеши! Говори спокойно! Дело прошлое, но мне надо знать. Не переживай всё снова, посмотри на эти годы как бы со стороны. Ну, успокоилась?
Лёжа на спине, Анечка заложила руки за голову, закрыла глаза.
— Рассказывать об исправительно-трудовом лагере трудно: каждый день это сто фильмов и одна захватывающая книга о человеческой подлости и геройстве. Верить в людей ещё более глупо, чем верить в бога. Но одно бесспорно — удивительное многообразие оттенков всех чувств, вскрываемых заключением, поразительное разнообразие поступков, на которые способен человек, когда с него спадают привычные путы так называемой культуры. Да ты ведь это сам знаешь, чего рассказывать.
Я киваю головой.
— Наука говорит, что первая стадия опьянения проявляется в освобождении инстинктов, Анечка. В этом состоянии освобождённых инстинктов и пребывают лагерники!
— Да! Попустительство начальства и его соучастие во всеобщем воровстве и казнокрадстве развязывают руки и заключённым. В лагере воруют все и все. Зачастую наносят большой вред государству без пользы для себя. Безнаказанность приводит к разнузданности. Люди теряют контроль над собой и идут на всё. Шоферы самосвалов на строительстве плотин сваливали камни на головы начальникам, рабочие толкали в шлюзы стрелков, за женщинами охотились, как за курами… Изнасилования и убийства в каждой зоне случались не ежедневно, но сведения о таких зверствах каждый день поступали из других зон, так что в общем всё вместе это создавало кошмарный фон жизни, бессмысленно-трагический.
Женщины совершенно теряли человеческий облик: на работе они шли с мужчинами в любые закоулки, солдаты вытаскивали их оттуда без юбок и трусов под дикий гогот строившихся или работавших бригад, но никакие самые ужасные оскорбления не действовали, потому что слова и действия потеряли смысл и перестали быть оскорблениями.
Что тебе рассказывать? Зачем? Ну, две девушки в жаркий день зашли на завод попросить воды, их изнасиловали, разрезали на куски и спрятали в груде конского волоса — он был нужен для прокладки паропроводов. Что тебе нужно? Даты? Фамилии? Оставь, это ни к чему!
Среди уголовников попадались и контрики. Я долго подкармливала одного музыканта из Сочи: его малолетнего сына задавили на шоссе проезжавшие в машине местные начальники. Подняв раздавленного ребёнка на руки, он стал орать им вслед проклятия. Собрался народ. Составили протокол. Приговор: десять лет. Но кто-то проявил мягкосердечие и направил осуждённого» не к вам в Сибирь, а к нам, на строительство канала. Нужны ещё такие же факты? Я их могу сыпать сотнями.
Анечка перевела дух. Я молчал.
— День работы на канале засчитывался за три дня. Уголовники работали яростно — все ждали амнистии после окончания строительства. Я тоже бросилась в первую линию. Таскала камни, стояла по пояс в ледяной воде — ведь я прибыла в начале зимы. Потом стала отекать — сердце не выдерживало. Но я ходила, пока меня не сняли с работы часто приезжавшие начальники. Я насильно была переведена в лагерную хозобслугу. Начала мыть полы, но начальник снял меня и с этой работы. Стала штопать телогрейки в портняжной мастерской. Среди проституток и воров я была одна человеком, и меня заметили начальник лагеря и опер — я не попадалась ни на воровстве, ни на проституции. Так я с муками добралась до ворот заводской лаборатории и вошла в неё, оставив позади здоровье, которое не вернуть.
Я отработала на канале два года.
Потом строительство закончилось, и 20 сентября 1952 года меня за «высокие производственные показатели и хорошее поведение» освободили досрочно и на два года оставили вольнонаемным сотрудником, старшим инженером и начальником центральной лаборатории. 13 декабря сняли судимость. Мои расчёты оказались верными: я осталась живой и абакумовщину перенесла легче, чем сотни тысяч вторично осуждённых контриков. В единоборстве с Абакумовым я его перехитрила.