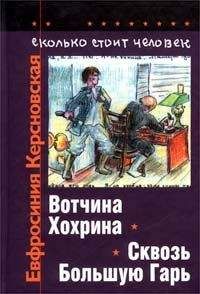Толя запоминал все эти сведения и приходил в горы. Он думал, что приносил данные, без которых воевать нельзя. Да, информация была очень ценной. Однако куда с ней податься? Прямой связи с фронтом не было. Сведения поступали к нам, а мы пересылали их в штаб Мокроусова. На это уходила неделя...
Снова Толя Серебряков спускался в город, снова встречался с Надей, и снова все начиналось так, как начиналось раньше.
Отрядный разведчик Миша Горемыкин таким же образом ходил в Кореиз, в домик своего отца, который по явному недосмотру был определен как явочная квартира: место встречи подпольщиков с представителями отряда.
В Кореизе от мала до велика знали, что Миша ушел к партизанам.
И вот парня посылают на связь к собственному отцу.
Какая уж тут тайна, когда кореизские пацаны, случайно заметив Михаила, начинали горланить:
- Миша-партизан! Миша-партизан!
Миша идет на очередную связь с отцом. Он парень дисциплинированный, смелый. Куда как смелый! Когда неожиданно столкнулся в лесном доме "Холодная Балка" со здоровенным фашистом, то не растерялся, отбил пистолет, направленный на него, свалил немца ударом ноги и пристрелил. Второй фашист пустил было по нему очередь, но поторопился. Миша вывернулся, исчез. Пока фашист соображал, куда делся партизан, Миша выстрелил ему в голову.
Сумерки. Миша осторожно наблюдает за родным домиком, приземистым, крытым красной черепицей, замшелой от времени.
Но почему нет условного знака?
Вдруг увидел на соседнем дворе мальчишку, позвал.
Парнишка ахнул:
- Уходи! Твоих арестовали. И батю, и маму, и сеструху...
Двое суток Миша добирался до лагеря и пришел постаревший на десять лет.
Насильно согнали народ на ялтинскую набережную, в крытой машине привезли семью Горемыкиных и публично повесили. Мужчина, женщина и четырнадцатилетняя девочка качались на морском ветру не одни сутки.
Через страшные пытки прошла Надюша. В подвале гестапо она держалась мужественно, выгораживала подруг и сумела кое-кого спасти.
На смерть пошла смело. Они никого не предала, никаких секретов не выдала, а знала много. В ее руках были адреса тех, кто остался на подпольной работе...
Есть в Ялте люди, которые до сих пор не знают, что жизнью своей обязаны Наде Лисановой, восемнадцатилетней девушке, погибшей, но не проронившей ни слова...
Они добровольно остались в городе. Им сказано было: ждите сигнала, к вам придет наш человек и скажет, что делать.
Были такие, что честно прождали все 879 дней оккупации.
А есть случай парадоксальный. Недавно мы, бывшие партизаны, ходатайствовали о восстановлении в партии Евдокима Евдокимовича Легостаева. Он был оставлен для подпольной работы, в его домике, на окраине Кореиза, спрятали оружие: пистолеты, автоматы, взрывчатку, гранаты. Прямо арсенал целый.
Легостаев ждет связных, ждет месяц, другой, год ждет, а кругом полицаи, жандармы...
Легостаев ждал связных со дня вступления фашистов на Южный берег Крыма до часа появления войск Красной Армии в освобожденном Кореизе...
Ждал! Это легко говорится. Жил-то он вроде в камере для приговоренных к смерти. Вот откроется дверь, появятся палачи... Или случайность какая... Ведь могут склад обнаружить пронырливые мальчишки, которые, несмотря ни на что, играют в войну...
Человек поседел от такого ожидания. Он трижды перепрятывал свой опасный арсенал. Первый обыск - и ему виселица. Он мог покинуть Кореиз, в конечном счете закопав оружие, но не сделал этого, а следил за своим арсеналом, ухаживал, берег от порчи и дисциплинированно ждал.
Когда же пришли наши, то нашлись "умные" головы, которые на свой лад оценили поступок Легостаева. Они исключили его из партии за "пассивность". Правда, конечно, восторжествовала, но какой ценой!
15
Отряд исподволь собирался на заранее установленное место - в Стильскую кошару; а в старом лагере, в котором лежали убитые, продолжала гулять поземка, торопясь скрыть от неожиданно заголубевшего неба следы страшного боя. И так она, эта поземка, постаралась, что через сутки-другие не осталось решительно никаких признаков того, что здесь недавно было покончено с жизнью ста пятидесяти здоровых мужчин, что и в России, и в Германии овдовело немало женщин, осиротели дети, матери остались без сыновей.
Гуляла поземка на яйле, мертвой как пустыня.
Ялтинский отряд исподволь собирался. Последним пришел политрук третьей группы Александр Поздняков, привел остатки алупкинцев. На них, оказывается, тоже напали, и был бой, и были потери.
Как-то само собой получилось, что старшим над всеми стал парторг Иван Андреевич Подопригора. Это был больной человек, с сизым бритым подбородком, печальными глазами, мягкий по характеру, но мужественно сражавшийся на линии обороны, когда вблизи лагеря показалась первая карательная цепь.
Иван Андреевич командовать не умел. Он больше уговаривал, чем приказывал. И бог его знает, может быть, в тот час доброе слово было важнее командирского окрика.
Отряд притих. Никаких вылазок, разве лишь за продуктами Ходили.
Шоковое состояние продолжалось. Нужна была резкая перемена.
Трудно было начинать сызнова. Что-то пытался сделать политрук Кучер. То он шел на тайный склад, вспоминая покойного Тамарлы, который, так сумел сохранить продукты, что немцы не смогли, их обнаружить, хотя железными щупами протыкали весь лагерь, то добывал лошадей, нападая на бродячие обозы.
Кучера называли "товарищ комиссар". Никто не возлагал на него этих обязанностей, получилось само собой.
В лагерь Кучер возвращался усталым, едва держась на ногах. Он был молод и еще не мог понять главного. Партизаны смотрели на него как на своего спасителя, но ни они, ни он не задумывались, к чему их приведет собственная бездеятельность.
А мы в штабе понимали: или встряхнем Ялтинский отряд как следует, или он медленно, но верно сойдет со сцены партизанского движения, оставив в горах только трагический след.
"...И верю - ялтинцы не подведут!" - вспомнились мне слова секретаря обкома.
Пока подводили.
Нужен был прежде всего командир!
Имелся у нас на примете один человек, политрук пограничных войск Николай Петрович Кривошта. В одном из декабрьских боев мы оказались рядом...
Еще тогда я увидел, что это человек сильной воли. Немцы приближались, до них было всего метров двадцать. Я порывался дать команду открыть огонь, но Кривошта держал мою руку и говорил: "Еще немного, еще... Вот сейчас, сейчас..." У меня от страха на лбу холодный пот выступил, а он все придерживал. И я почему-то его слушал.
Наконец он поднялся, почти весело крикнул:
- А теперь даешь! - и в упор стал расстреливать карателей.