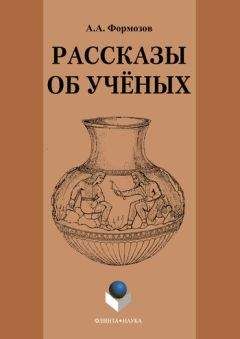Так же, как и Рерих, Бенуа высказался о своём противнике буквально на пороге смерти. В письме к И.С. Зильберштейну восьмидесятивосьмилетний искусствовед соглашался, что Рерих – большой художник, хотя, по его мнению, лишь в ранний период творчества – «до Гималаев». Иное дело Рених-человек – мало приятная была личность с бешеным честолюбием. Он для того и забрался в Кулу, чтобы со снежных вершин с величием взирать на мироздание и посылать оттуда вниз свои туманно-мистические пророчества[132].
Как видим, вражда двух выдающихся художников прошла через всю их жизнь, чуть ли не через три четверти столетия. Это теперь деятели начала прошлого века воспринимаются нами как одна плеяда, почти что дружная семья. И отчасти это верно: отойдя и от академизма, и от передвижничества, они все вместе заложили основы современного русского искусства, а попутно сумели открыть и заставить блистать новыми красками забытые сокровища в архитектуре и живописи прошлого.
Но внутри этой группы существовали свои сложные взаимоотношения, делавшие для Рериха иных сверстников даже более чуждыми, чем Стасов и Микешин. В который раз оправдало себя замечательное наблюдение Льва Толстого над своими персонажами: «Оба были люди уважаемые и по характеру, и по уму. Они уважали друг друга, но почти во всём были совершенно и безнадёжно не согласны между собой – не потому, чтоб они принадлежали к противоположным направлениям, но именно потому, что были одного лагеря (враги их смешивали в одно), но в этом лагере они имели каждый свой оттенок. А так как нет ничего не способнее к соглашению, как разномыслие в полуотвлечённостях, то они не только никогда не сходились во мнениях, но привыкли уже давно, не сердясь, только посмеиваться неисправимому заблуждению один другого»[133] (Наши герои, впрочем, сердились, и весьма).
Результат же всего этого вышел тот, что сотрудничество Рериха в «Истории русского искусства» оказалось невозможным. Но этого мало. Точно так же отпали и Дягилев, и Билибин, и Фомин, и столь близкий Грабарю Бенуа. Широко известный критик, автор «Истории русской живописи в XIX веке» и десятков статей по искусству не пожелал стать простым исполнителем воли редактора, указывающего ему, что надо сказать здесь, а что – там. Он жаловался самому Грабарю на то, что он «обставил меня своими рецептами и программами. Я принужден компилировать, объезжать какие-то рифы, слушаться какого-то лоцмана. Мне это скучно»[134]. И через полтора года после начала работы инициатор издания потерял наиболее ценного, поистине незаменимого помощника.
Вот тогда и пришлось ухватиться за первых попавшихся людей. Предназначенный Рериху раздел о древнерусском искусстве достался киевлянину Г.Г. Павлуцкому – человеку другого поколения (родился в 1861 году), других вкусов, симпатий и антипатий, чем Грабарь или Бенуа; не художнику, а профессору гелертерского типа, занимавшемуся к тому же в основном античностью, а не древней Русью. Прислал он текст скучный, сухой, справочный, без стержня, во всём выпадавший из стиля многотомника. Четверть века спустя Грабарь назвал эту главу «ложкой дёгтя» и каялся, что пригласил такого неподходящего автора[135].
Рядом с Павлуцким появился и тот самый А.И. Успенский, которого Бенуа так не хотел видеть в числе составителей «Истории». Для невышедших томов готовил материалы и Сергей Маковский. Том, посвященный скульптуре, написал целиком барон Н.Н. Врангель – «баловень светских гостиных», человек не без способностей, но типичный дилетант и среди художников, и среди учёных. Позже Грабарь мечтал о замене этого текста новым.
Так издание, задуманное как коллективный труд единомышленников, превратилось по ходу дела в подвиг жизни Игоря Грабаря, пошедшего скрепя сердце на участие в нём абсолютно случайных людей. «Разномыслие в полуотвлечённостях» пагубно отразилось на судьбе большого и прекрасного начинания.
* * *
С подобными проблемами сталкивалось большинство из нас. Редкую обобщающую работу удалось выполнить, собрав лучших специалистов в данной области. Или всё берёт на себя некий талантливый учёный, привлекая кучу рабски подчинённых ему и относительно более или менее слабых сотрудников; или мы получаем сборник интересных по отдельности, но разнородных, а нередко взаимопротиворечащих статей. Сговориться, пожертвовав чем-то из своих убеждений, таланты, похоже, не могут органически. При индивидуальном творчестве, обычном для гуманитариев, это закономерно. Нельзя, в самом деле, жертвовать собой и, как говорится, наступать на горло собственной песне. Но силы даже самого яркого дарования ограничены, и иные крупные дела ни для кого по отдельности неподъёмны. Разрешима ли эта коллизия, мне пока что неясно.
За последние десятилетия появилось значительное число книг и статей, документальных фильмов и телепередач, посвященных жизни и деятельности великого русского биолога Николая Ивановича Вавилова. Рассказано о его путешествиях по Азии, Африке и Америке. Проанализированы его идеи и гипотезы. Пролит свет и на историю его трагической гибели. Однако не все стороны завершающего этапа биографии ученого освещены достаточно полно. Вот почему стоит, должно быть, поговорить об одном эпизоде.
Большинство биографов сосредоточило своё внимание на поединке Вавилова и Лысенко во второй половине тридцатых годов[136]. Но автор книги о Вавилове в серии «Жизнь замечательных людей» сумел заметить событие более раннее[137]. В 1932 году в Ленинграде вышла брошюра Г.В. Григорьева «К вопросу о центрах происхождения культурных растений», где утверждалось, что с позиций общественных наук теория Н.И. Вавилова методологически порочна. Именно с этого момента, по мнению СЕ. Резника, положение Вавилова стало ухудшаться. С 1933 года прекратились его поездки с экспедициями за рубеж; с 1935 – он перестал быть членом ВЦИК и тогда же потерял пост президента Академии сельскохозяйственных наук.
Сделав интересное наблюдение, Резник впал далее в ошибку. Он пишет, что никто из его информаторов слыхом не слыхал ни о каком Григорьеве. Значит, это псевдоним.
Брошюра издана в серии «Известия Государственной академии истории материальной культуры» (Т. XIII, вып. 9), из чего следует, что о Григорьеве надо было узнавать у сотрудников этого учреждения, или, вернее, учреждений, сложившихся со временем на его базе, а вовсе не у биологов. Государственная Академия истории материальной культуры (ГАИМК) в 1937 году была превращена в Институт истории материальной культуры Академии наук СССР (ИИМК), переименованный в Институт археологии. В Ленинградском отделении (ныне вернувшем себе самостоятельность и наименование ИИМК РАН) ещё недавно работали люди, хорошо помнившие Георгия Васильевича Григорьева (1898–1941).