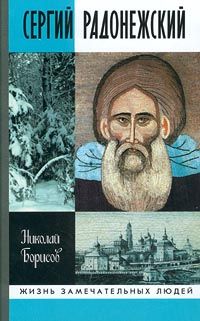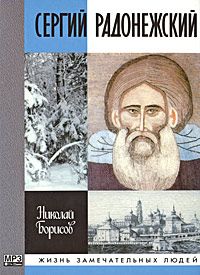— Митрополит благословил меня на путь! — сдерживая раздражение, сказал Иван. — Или ты не веришь в силу молитв?
— Митрополит не бог… Делай как знаешь, царь.
Наступило молчание. Ребенок на руках у мамки заплакал. Анастасия бросилась к нему.
— Ступай в покои, — посоветовал Максим. А повезешь — не застуди ради бога.
Анастасия оглянулась на царя.
— Ступай, — разрешил Иван.
Они остались вчетвером: Максим, царь, Курбский, поп Андрей.
— Денно и нощно возношу молитвы о здоровье царевича, — сказал поп.
Максим равнодушно кивнул.
— Ты немного сказал о Казани, — промолвил Иван. — Только укорил нас.
— Свершили великое, сам знаешь, — ответил Максим. — Чего же я повторять это стану? Без меня льстецы найдутся лукавые.
— Пришел я о делах божественных говорить, сказал Иван. — Советоваться с тобой.
— Говори, слушаю, коли так.
— Не ты ли обличал невежество наше? — спросил Иван. — И не я ли, слушая отцов церкви, вопрошал собор, как быть, дабы просветить души и учинить порядок?
— Собор постановил мудрое.
— А ныне другая забота. Книг не хватает, Максим. А те, что пишутся, худы.
— Знаю.
— Беседовал с митрополитом я. Сказывал мне владыка Макарий многое о книгах печатных… Дескать, и у него люди есть, что могли бы печать наладить. Немцы-то мастеров не дают… Что мыслишь ты? Угодное ли богу совершу, повелев печатать книги?
Максим ожил, поднял голову.
— Великое совершишь! Слава Казани перед сим померкнет, царь!.. Чем может печатание книг противным учению быть? Латиняне оттого свои проклятые ереси и множат успешно, что книг в изобилии имеют. Бог же указует путь, как их посрамить. Лучше и больше, чем католики и протестанты, книг иметь!
— Мои слова, государь, — улыбаясь, сказал Курбский.
— А не плохо то, что с латинян образец берем?
Максим потряс головой.
— Оружием врага господня сего врага поражать — хорошо! Не веру же перенимаем, а едино отнимем то, что истинной вере принадлежать должно, государь!
— Стало быть, зачтутся мне печатные книги перед спасителем, Максим? Во искупление грехов моих послужат?
— Послужат, государь!.. Порадовал ты меня!.. Дай благословлю!
Он разволновался, утер невольно набежавшую в уголок дряблого века старческую слезу.
— Тебе надо просвещать агарян, царь! Крестить их! И Запад перед тобой. Многомудрые, хитрословные, искушенные в ересях враги греческой веры. Книга же — лучший проповедник веры. Затмим еретиков своей печатью, умножим книги неисчислимо — это верней полков и мечей!.. А откуда у митрополита люди?
— Наши же писцы.
— Знают ли печать?
— Будут искать превзойти латинян.
— Пришли их ко мне, государь!
— Разве ты ведаешь сие дело?
— В молодости я знал многих печатников, государь. Видел их станки, видел их буквы. Расскажу, что знаю.
Царь обратился к Курбскому.
— Наладил бы ты, князь, гонца в Москву. Пусть митрополит пришлет своих людишек.
— Нынче же пошлю! — поклонился Курбский. — А сложны ли станки, Максим?
— Не больно и сложны. Буквы — шрифт — самое трудное. Лить их надо.
— Справятся ли наши? Буковка не мортира…
— Трудов не пожалеют — справятся, князь.
У Ивана дернулись уголки широкого рта.
— Не потрудятся — под Фроловой башней научим прилежанию.
Максим отрицательно покачал головой.
— Из-под кнута такое не творят, царь. Тут нужен не страх, а взлет души и горение ее. Не омрачай славных начал кровью. Найдутся люди и так за божье дело поревновать.
— Дай бог! — сказал Иван. — Но коли нерадивы будут, не пощажу…
Максим Грек промолчал.
Курбский стал расспрашивать о фряжских и немецких печатниках, о приемах работы, о том, сколько книг выходит с одной формы. Максим сначала отвечал нехотя, потом увлекся, забыл жесткий тон царя и долго говорил, чертя на песке палочкой рисунки станков, пунсонов и матриц.
— Ну, ты все митрополитовым людям расскажешь, — поднявшись с лавки, сказал, наконец, царь. — Вижу, сам мастер ты… Прощай, Максим. Благослови меня.
Максим спохватился, что так и не высказал Ивану дум об осифлянах, о небрежении им долгом государя, о многих забытых собором неустройствах, но подумал, что не след об этом говорить сейчас: можно лишь испортить всю беседу о книгах, оттолкнуть царя от печати, и лишь вздохнул.
На другой день царский поезд потянулся к Димитрову, к Песноше. Неизвестно осталось даже, послал ли Курбский гонца в Москву.
Выждав седьмицу, Максим Грек заговорил с игуменом о том, что надо бы вызнать, кто в Москве думает наладить печатню.
Написали письмо митрополиту. Сообщили, что Максим Грек может помочь печатникам, если в том есть нужда. Наладили с письмом монаха Мисаила.
Мисаил сложил котомку и побрел.
Марфа плакала, повалясь головой на стол.
Иван Федоров угрюмо спросил:
— Станешь сказывать, кто обидел, ай нет?
Марфа катала голову по столу, не признавалась.
— Бабы или опять поп?
Марфа проголосила:
— Не дал мне причастия-я-я!.. Гулящей при всем народе обозвал!.. А тебя чернокнижником!
— А, сатана!
Иван рванулся с лавки. Марфа, забыв плакать, испуганно ухватила за рукав кафтана.
— Не ходи! Пожалей!
Он высвободился, заметался по избе. Пальцы сжимались в кулаки. В висках клокотала пьяная от гнева кровь. Марфа снова зарыдала. Он не выдержал, гаркнул: «Замолчи!» Схватил шапку, грохнул дверью, зашагал куда глаза глядят.
Уже давно жизнь его стала адом.
Ванюшку дразнили и колотили большие соседские ребятишки. Окрестные бабы, те самые, что когда-то Марфу жалели, плюют в ее сторону, обзывают нехорошими словами. На него самого косятся… За то, что не в законе он с Марфой? Так он ли один не в законе живет? И кому ведомо, что живет он с нею? Или за то, что с Акиндином и прочем пьяной братней писцовой не хороводится? За то, что с Гаспаром Эверфельдом немецкий язык учит? Что на Литейном дворе знакомство с пушкарями свел, руки сжег и стравил, над булатными буквами трудясь?
Иван Федоров шел и шел. Ноги сами несли к Водяным воротам, прочь из города, от людей.
Люди!
Чем платили они за Иванову жажду творить для их добро?
Митрополит последнее время остыл к печати.
Поп Григорий подлости творит. Это не иначе как он с Акиндином слухи пускают, будто Иван латинскую веру познает и хочет латинскими книгами православных смущать.
Дураки! А как же латинские книги не сбирать да не рассматривать! У кого же печати учиться? У одного Макария-черногорца? Слов нет, искусен он, да и немцы не лыком шиты…