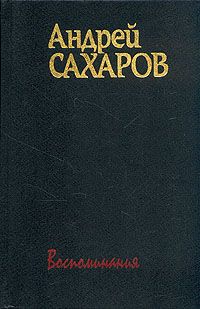Мы по майкиной рекомендации ставили два дня компрессы, но ноге стало хуже. Я перестала ставить компрессы. Несмотря на то, что у него болела нога, Андрей считал, что отменять мою поездку не надо, и 7 апреля я поехала в Москву. Поехала с твердой договоренностью с Андреем, что я ухожу в американское посольство, а он начинает голодовку.
Мысль об уходе в американское посольство была вызвана тем, что Андрей боялся: если я останусь в Москве на Чкалова одна или, тем паче, в Горьком одна, то меня могут забрать в больницу или еще куда-то и со мной может вообще неизвестно что случиться, что мне небезопасно быть дома и поэтому я должна уйти в посольство. Вначале он думал, что лучше всего мне уйти в норвежское посольство, и просил меня еще зимой выяснить, есть ли в норвежском посольстве врач. Оказалось, там врача нет, и они сами, если им нужна срочная медицинская помощь, обращаются в поликлинику для дипломатов. Андрей считал, что это нам не подходит и в таком случае я должна уйти в американское посольство.
Надо сказать, что мне американское посольство совсем не нравилось: я думала и сейчас думаю, что, уйди я в американское посольство, ко мне еще легче было бы прилепить всякие названия вроде как сотрудник ЦРУ, сионистский разведчик или еще что-либо в этом роде. Правда, я не ушла, а все равно эти названия ко мне прилепляют, но хоть с меньшими, даже и на их взгляд, основаниями.
Я вообще была против того, чтобы мне идти в посольство: я не пятидесятник[59] и прекрасно понимаю, что посольство помочь в решении моей проблемы не может. Но и Андрей считал, что нам нужна не помощь посольства — нам нужно только убежище для меня как таковое.
7-го числа у Андрея болела нога, но мы думали, что все это пройдет, по рекомендации Евгения Львовича мазали этим троксавазаном, который у меня нашелся. Андрюша поехал меня провожать, в купе он сидел, подняв ногу на сиденье, потому что она сильно болела. Но мы оба не придавали этому особого значения. Я виню себя: я медицински более грамотна, должна была в этом случае насторожиться, — однако слишком волновалась, поскольку уже окончательно было решено, что я из Москвы не возвращаюсь. Это означало, что я иду в посольство, предварительно послав Андрею телеграмму с указанием даты, а он в этот день посылает телеграммы председателю Президиума Верховного Совета СССР и в КГБ и начинает голодовку. Кто у нас тогда был? Я уже забыла — Черненко, кажется, а может, и не Черненко. Так я была занята мыслями о предстоящей голодовке Андрея, что о ноге много не думала.
8-го числа я разговаривала с детьми. Мне кажется, дети поняли, что готовится голодовка, только не понимали, когда она начнется.
Я встречалась с сотрудниками посольства, договорилась с ними, что они 12-го числа за мной заедут и повезут к послу. Документы, которые подготовил Андрей: обращение к послам и остальные письма, — я должна была передать лично послу (прилож. 5). Так он хотел.
10-го числа ко мне неожиданно пришел Дима и сказал, что у него свободные дни, и он едет к отцу. Я обрадовалась, дала ему кое-какие продукты и троксавазан, который уже к тому времени купила. Дала деньги на билет, и он уехал 10-го числа.
11-го вечером я пошла ночевать к Галке. 12-го я вернулась от нее в час дня, в два часа у меня была встреча с американцами. Я собрала сумку с вещами: белье, платье, какие-то книги, чтобы ехать с нею в посольство, — и в это время мне принесли телеграмму от Андрея: «Ноге хуже, рекомендуют госпитализацию, согласился». Я оставила свою сумку недособранной и решила немедленно ехать в Горький. Спустилась к двум часам вниз. Еще не приехали американцы, вдруг вижу — бежит Галя, размахивая моим мешочком с лекарствами. Она пришла совершенно случайно, потому что я забыла свои лекарства и она решила мне их принести. Я ей сказала, что получила телеграмму от Андрея и еду в Горький. Она не знала, как и никто из друзей, о планах насчет посольства, хотя, мне кажется, понимала, что что-то я делаю не так, как всегда.
Галя отдала мне лекарства и ушла. А в это время приехали посольские. Я им сказала, что к послу не поеду, — они, по-моему, очень растерялись от моих слов — и попросила их отвезти меня на вокзал. Показала телеграмму от Андрея. Сказала, что я еду туда, вернусь 2-го числа, что 3-го я их прошу приехать ко мне на встречу и что по возвращении, видимо, состоится мое свидание с послом, если он согласится меня принять. По дороге на вокзал я вспомнила, что у меня в сумке, в конверте, лежат все Андрюшины письма послам и прочее. Я решила, что мне лучше не тащить это с собой в Горький, и попросила посольских сотрудников сохранить этот пакет. Я не давала им его для передачи кому-нибудь — я совершенно четко сказала:
— Я с вами 3-го встречусь, и тогда вы мне отдадите эти письма, а ехать мне с ними не хочется.
Они поняли. Они отвезли меня на вокзал, я с ними попрощалась и купила билет на поезд на 4 часа дня, который прибывает в Горький в 12 вечера. Спустилась вниз, где буфет, и там же оказались кассы Аэрофлота. Я увидела, что есть билет на самолет на 6 часов вечера, который будет в Горьком в 7 часов. Свой билет я отдала тут же какому-то мужику, купила билет на самолет и позвонила Гале, что я еду к ней, потому что мне оставалось до самолета еще три часа.
Приехала к Гале, поела, приехали Неля[60] с Эмилем, которым мы позвонили, и отвезли меня в аэропорт Домодедово.
В Горький самолет прилетел почти вовремя, и домой я приехала в восемь вечера. Такси я не отпускала. Дома застала большой разгром и Диму, курящего и листающего все журналы, какие есть, подряд, — во всяком случае, весь стол завален разными журналами, и Дима в этом царстве дыма и полном довольстве собой. Он сказал мне, что отец в больнице. Я поехала туда, меня не пустили, но взяли записку.
Я написала: «Приехала, не волнуйся, завтра утром буду у тебя. Целую. Люся». Вернулась домой. Утром поехала в больницу снова. Андрюшу я застала уже после того, как ему вскрыли нарыв. Они важно называли это «после операции». У него оказался карбункул в области коленного сустава, но сустав не был затронут.
Андрюша, очень растерянный, сразу мне сказал, что накануне, когда его привезли в больницу, во время обследования в рентгеновском кабинете и еще где-то его сумка оказалась не с ним. Он считает, что она была в руках КГБ. Из сумки исчезли адрес посольства, фамилии посольских сотрудников, с которыми я разговаривала, и еще какие-то бумаги. А копии писем послам, обращения и другие в сумке остались. Но Андрей считал, что сумка была не у него в руках, а сама по себе достаточно долго, чтобы могли успеть сфотографировать эти документы. Он был очень расстроен этим. Я ему сказала: «Наш поезд ушел, считай, что из-за ноги, считай, что из-за помойного ведра, — в этот раз надо остановиться». Он ответил: «Нет, ни за что не остановлюсь, я все равно буду делать то, что решил».