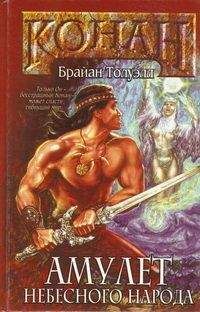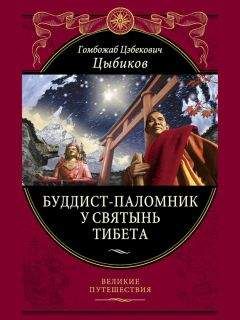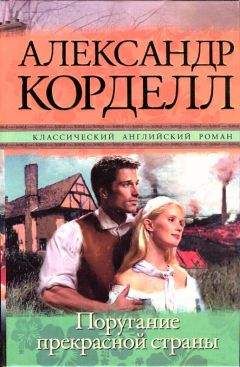Но вот пришел и мой час встретиться с участием и состраданием иного мира…
Многие годы жизнь моя складывалась удивительно однообразно: одна за другой следовали у меня крупные неудачи, причем происходили они, как правило, в момент наивысшей уверенности в том, что начатое дело или какой-то замысел вот-вот счастливо осуществится, в момент, когда самое это дело становилось мне очень дорого и я начинала чувствовать в нем себя уверенно, когда один только шаг оставался до счастливой развязки и или творческой победы. И вдруг в мгновение ока все рушилось…
Мне нечем, совсем нечем было похвалиться на миру, даже если бы я и вознамерилась это сделать. Душа моя знала свои вины: я знала, почему то-то или то-то у меня не получилось, всегда без исключений могла сама усмотреть объяснения моих неудач и скорбей нигде кроме, как в самой себе, хотя у очень многих моих знаемых вокруг бывали «вины» и почище моих, но такой прямой связи между ними и неотвратимыми наказаниями там почему-то не наблюдалось.
Можно было бы то печальное обстоятельство, что на вступительном экзамене в Консерваторию я не безупречно сыграла сонату Моцарта d-dur, что привело к совершенно плачевному и никем не ожидавшемуся моему провалу объяснить тем, что мой молодой и несколько легкомысленный педагог, который не вылезал из зарубежных гастролей и потому мало с нами занимался, просто «запамятовал» о том, что кроме двух фортепьянных концертов и прочих сочинений в моей программе должна была иметь место еще и классическая сонатная форма, а потому задал мне учить эту сонату всего за полтора месяца до экзаменов, и сложная вещь не успела «обыграться» и «обкататься»…
Но я знала, знала, как складывалась моя жизнь того предэкзаменационного года (хотя громогласные звуки моего бедного рояля и неслись из наших окон эдак по семь часов в день), но мысли-то мои то и дело пребывали в отсутствии, и я улучала часы и минуты, сбегала с каких-то занятий, лгала дома, лишь бы прогуляться по старой Москве с моим сокурсником. Могла ли я потому винить в своей беде кого-то и удивляться, что из сложной и выигрышной программы комиссия первым делом попросила меня сыграть именно эту «злополучную» сонату, хотя преподаватель и заверял меня: не волнуйся, у тебя не спросят ее, я, мол, обо всем договорился…
Программа у меня была действительно большая, эффектная и я даже предположить не могла, что на той сонате сойдется для меня свет клином. Но он сошелся… И это усугубило удар, неописуемый и неожиданный.
Мне было тогда восемнадцать лет, из которых тринадцать лет без праздников и выходных, без отдыха и развлечений были отданы роялю. Все силы и даже здоровье было отдано музыке и будущей жизни в ней… Боль утраты была такой остроты, что много лет потом я не могла даже ни проехать, ни пройти мимо Консерватории и Никитских ворот, где прошла та, может быть, главная часть моей жизни. И теперь нет-нет, да и отзовется на старомодный, благородный и печальный, единственный в природе звук фортепьяно та, казалось бы, давно уже зарубцевавшаяся рана, схоронившая некое особенное и, казалось бы, так и не пригодившееся мне прошлое: тот опыт и ту первую ужаснувшую меня когда-то боль безвозвратной потери.
Не на кого было роптать. Только на себя. Потом пришел черед других утрат, тяжесть которых все возрастала. И вот однажды, — это уже было незадолго до моего решительного и неотвратимого прихода в церковь, мне приснился сон, в котором было предсказано все, что впоследствии свершилось со мной…
* * *
Я увидела себя и маму вместе восходящими на абсолютно белую снежную гору без деревьев и домов, без ничего — крутая огромная белая гора и над ней где-то далеко такое же белое непрозрачное зимнее небо. Мы идем с мамой, держась за руки, и смеемся. Мы ведь были очень дружны, и мама любила и умела посмеяться, — у нее было замечательное художническое свойство — почти детская живость; и вот на середине пути вдруг — провал сознания прямо во сне, но я чувствую, слышу и вижу, что происходит что-то ужасающее, очень страшное, что не возможно стерпеть. Во время сна я вижу все т о происходившее, ужасающее, но оно мгновенно сокрывается от меня… Но вот ужасающее закончилось и я опять все вижу ясно: я медленно и трудно, с великим трудом взбираюсь вверх по горе. У меня разрывается сердце, я горько плачу, и я — одна: мамы уже нет со мной. Из последних сил я карабкаюсь вверх, но остановиться не могу, гора так высока, что лучше не оборачиваться… И вдруг почти на уровне моих глаз, а я пригнута долу, согнута в три погибели, — я вижу прямо перед собой на высоте стопы святителя Божия в полном архиерейском облачении и его золотой посох.
На этом подъем заканчивается. Святитель посохом указывает вправо: там за ровным уже снежным пространством под белым, светло-жемчужным, каким только зимой бывает, небом, я вижу вдалеке очертания низкого из красного кирпича в стиле а-ля рюс времен Александра III, как Исторический музей в Москве, или как строения Шамординского монастыря близ Оптиной Пустыни, невысокого здания. На этом сон мой обрывается: я, кажется, двигаюсь в том направлении…
Когда мне привиделся этот сон, все мои еще были живы. Еще был впереди путь, даже полпути. И все-таки далее все свершалось именно так, как было начертано во сне. Милостивый Господь предупреждал, чтобы была готовой, чтобы понимала неотвратимость, что попущено было это мне пережить…
И вот пришли эти предуказанные дни моей жизни… Несомненно, и раньше мне помогал мой Ангел Хранитель, как помогает он всем крещенным душам, к коим приставлен, и кто не отгоняет его о от себя своим отчаянным цинизмом и безбожием. Были и у меня опасные мгновения в жизни, когда, наверное, помогали мне сугубо Силы Небесные. Когда зимой ночью в чуть ли не бурю вдруг вынужденно садился маленький «Аннушка» прямо на лед Белого моря вдалеке от города и аэродрома и надо было с тяжелыми вещами в легкой одежде и обуви (во всяком случае не северной) идти пешком до города и ты отставал ото всех и никто не оборачивался к тебе — жив ли, тут ли… Когда в другой раз посреди широкой и величественной Мезени под ослепительным мартовским солнцем вдруг начинал уходить под уже помягчевший лед наш газик, и мы выталкивали его втроем, проваливаясь в воду сами, зная прекрасно, что на высоких берегах Мезени только старинные обетные кресты да величественная тайбола (тайга) смотрят на нас, и вряд ли появится спасительный трактор, чтобы вытащить нас из беды, — а дело шло к ночи…
Когда на черниговщине пьяный мужик-возчик неистово гнал по заледеневшей дороге свои дровни, с которыми вместе мотался и ты из стороны в сторону, и как было не вылететь из саней и не остаться под звездами никому не нужным и всеми забытым в этих чужих тебе нежинских полях в нескольких десятках километров от жилья…