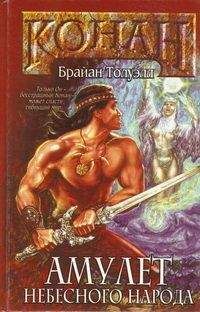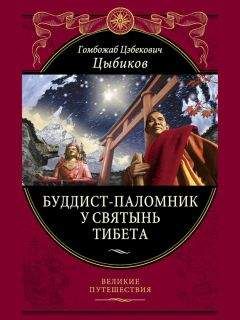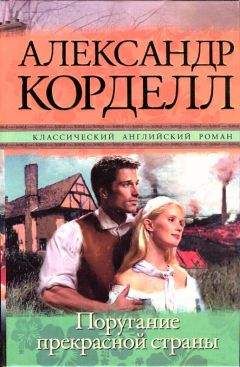Именно этот кризис и поразил глубоко русское образованное общество ко второй половине XIX и началу XX века. Его услышал и постиг Чехов — почти все его герои страдают от этого мучительного духовного недуга. «В Москву! В Москву», — человек рвется бежать хоть куда-то от невыносимой неустроенности собственной души, от страшной своей потерянности и беспомощности, — от всего того, что добрые, хорошие, воспитанные и образованные люди той поры воспринимали как неправильность и порочность обстоятельств и всего того, что их окружало и, бедные! — вместо того, чтобы заняться спасением и обустройством своей души с Богом и в Боге, начинали истово нырять в борьбу с обстоятельствами, с властями, с сословиями…
«Любить!», «Хоть кого!» — лишь бы только прилепить свою душу к кому-нибудь, лишь бы не остаться один на один со своей «простотой» — той, что по Далю — пустота, — стенала бессловесная душа чеховской Душечки. А Котик — неудавшаяся любовь Ионыча, гремела руладами по роялю, — жаждая стать музыкантшей (не из хлеба, заметьте!), не видя вокруг никого и ничего, и себя самое не видя. Бежать куда угодно и бросаться во что угодно. Такие, как Ионыч, плюнув на все эти туманные душевные зовы, выбирали то, что казалось неизменным: сытость, нажива, богатство, комфорт…
И все же, в отличие от нашего нынешнего времени, этот кризис был еще достаточно высокого порядка. В людях все-таки еще говорил, тосковал Дух:
Безверием палим и иссушен,
Невыносимое он днесь выносит…
И сознает свою погибель он,
И жаждет веры… но о ней не просит…
Тогда не полностью еще было разбазарено русское духовное наследство. Свое духовное умирание люди ощущали, но уже вряд ли многие из них способны были понять его причины. Волшебное слово «вера» было ими забыто.
А ведь до сих пор мы чувствуем, погружаясь в прозу тех лет, вглядываясь в старые картины, вслушиваясь в музыку, что Россия в то время была еще, как губка пропитана до последнего атома благодатью, верой и православным духом. Обращаясь к свидетельствам столетней давности, мы действительно можем встретить «другую жизнь», других людей, д р у г у ю Россию. Разве не запечатлела это дивное чудо русской благодатной жизни, к примеру, в своих «Страннических воспоминаниях» Верочка Жуковская? В каком же сне забвения были люди того времени, в каком духовном оцепенении, что даже не заметили, как страшный Черномор, пока они пребывали под гипнозом своих эгоизмов и «безысходных страданий» похитил как прекрасную Людмилу их дивную Родину, их несравненный отчий дом…
Но стоит ли торопиться к временам заката… помедлим, пока на календаре лишь только канун нового 1911 года, и Бог еще долготерпит, — Москва вся белая, заснеженная, во всю идет торговля на Рождественских базарах, лихо несутся извозчичьи пролетки, гудят, раскатываются малиновым звоном колокола по первопрестольной столице, куда вот-вот соберется Катя учиться рисованию и живописи. А покамест, она погружена в свою молодую «паузу жизни», в свою безответную любовь, в никем не узнанные и никому не поведанные — даже сестре — страдания ее сердца…
* * *
Еще с гимназических лет полюбила Катя человека, который о том очень долго даже и не помышлял, хотя и был он вместе со своей матушкой-вдовой другом дома и частым гостем у Микулиных. Его звали Александром Павловичем Рузским. Он был племянником известного боевого генерала, военачальника, генерал-адъютанта Николая Владимировича Рузского (1854–1918), сыгравшего, увы, очень неблаговидную роль в отречении Государя Николая II от престола и впоследствии омывшего свою вину мученической кровью. Н.В.Рузский, был зверски зарублен большевиками вместе с другими заложниками в Минводах. Он скончался после пятого удара саблей. Перед этим заложников заставили выкопать себе собственноручно могилу.
Александр Павлович — его племянник, был человеком вполне штатским, мирным, домашним, — типичным русским инженером-интеллигентом. Жил он с матушкой — Александрой Христофоровной и братьями в Киеве, вдалеке от политических бурь, хотя по взглядам был либерал. Женат не был. У Микулиных мать с сыном появлялись вечерами по нескольку раз в неделю. Это были совершенно свои люди. Александр Павлович всегда тут же садился за рояль: он любил музицировать и очень хорошо пел из классики. Ему аккомпанировала Катя, но чаще сам хозяин — прекрасный музыкант Александр Александрович Микулин. Трогательной любви молчаливой гимназистки, к нему обращенной, Александр Павлович так и не заметил…
Однажды Катю попросили навестить Рузских — Александра Христофоровна чувствовала себя нездоровой. Катя зашла в их квартиру — Александра Павловича дома не было. Как и Татьяна Ларина, Катя прошла в кабинет, посмотрела на книги, лежащие на столе, раскрытую газету… Увидела на полочке бюро засохшую гвоздику из петлицы и как-то в миг остро прочувствовала, как скользнул по лицу ее дух какой-то другой, ей совершенно неведомой жизни.
Но что это был за характер, моя бабушка Катя. Скрепить бы ей сердце, да и оставить мысли об Александре Павловиче, постараться преодолеть это непрошенное чувство… А она молча и безответно вот так и «пролюбила» его во всю свою жизнь и уже совсем старенькая, под восемьдесят лет, на мой вопрос, любила ли она кого-нибудь «по-настоящему», отвечала: «Да. Александра Павловича Рузского».
Были ли у Кати возможности устроить свою жизнь? Умная, своеобразно красивая, загадочная девушка из хорошего рода, образованная и не вовсе бесприданница, но никого не было рядом, кто мог бы составить ее счастье. Вообще почти никого не было. Со стороны родителей никаких попыток устроить судьбу девушек не наблюдалось. Ни Катю, ни Веру в общество, в свет специально «не вывозили». «Светскую жизнь» у Микулиных не одобряли. Таким был отец. О богемной жизни и речи быть не могло. Это был тихий, добропорядочный и очень тесный, ограниченный семейный мир… Отец занимался все время своей работой. Мать — семьей и частыми своими недугами. Не было вокруг девушек ни сплоченного живого аристократического круга близкой и дальней родни, который веками решал свои матримониальные проблемы большей частью внутри себя; ни купеческих обычаев со свахами, расчетами и сговорами, и прочими устоявшимися традициями этого сословия. Вообще родных, близких и дальних, становилось все меньше. Достаточно заглянуть в мемуары начала и середины XIX века, чтоб убедиться, сколь многоветвисты были еще в те времена дворянские семейства, и как это благословенное многолюдие помогало решать массу жизненных проблем, в том числе и брачных.
А здесь уже все было по-другому: старинное дворянство, корневое, культурное, весьма давно начавшее беднеть и как-то в ногу с обеднением и редеть. Беднеть-то, правда, начали чуть ни со времен Царя Ивана IV Грозного, когда стали истощаться подрубленные родовые корни многих древних опальных боярских родов. Довершился процесс при Петре I — вследствие введенного им закона о майорате — наследовании имущества по линии старшего сына, а Микулины были в те времена многодетны. Вглядываясь в родословные росписи Микулиных, Жуковских и Стечкиных, не могу не признать, что неудачные, своевольные, неравные браки по прихоти, но не по Божиему благословению, все-таки имели место в истории семьи. Не из-за них ли и началось это оскудение? И житейского благополучия, и потомства, и даже самого семейного устроения…