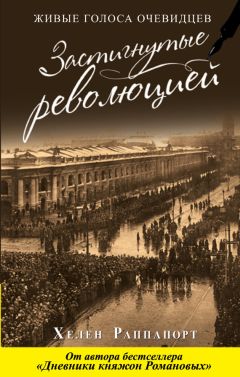Мариинский театр, обычно заполненный до отказа, на представлении балета «Ручей» тоже остался полупустым. Ниже по Фонтанке, во дворце княгини Радзивилл, шел своим чередом долгожданный прием. Каретам гостей, правда, не позволили въехать на Невский проспект, и им пришлось совершить длинный объезд. Шарль де Шамбрюн и Клод Анэ, которые находились среди приглашенных, отмечали, что гости выглядели озабоченными, хотя и «пытались танцевать, невзирая на это». Анэ наблюдал, как танцевать вышел великий князь Борис Владимирович, и спросил себя, не стал ли он свидетелем «последнего танго» этого отпрыска русской аристократии. На приеме был и Берти Стопфорд, жадно вбирая последние капли классического имперского декаданса. Он пробыл там до четырех утра, а затем, когда князь Радзивилл отправил его обратно в гостиницу на личном автомобиле, «случайные пули все еще свистели над головой»{273}.
Морис Палеолог был измотан, поскольку весь день «его буквально осаждали встревоженные представители французской диаспоры», которые мечтали выбраться из Петрограда. Вечером он вышел поужинать с приятелем, не планируя ехать к Радзивиллам. Однако по дороге домой он проходил мимо дворца и увидел стоявшую у ворот длинную вереницу автомобилей и карет. Прием был в самом разгаре, но Морис не стал присоединяться к гостям. Как он отметил тем вечером в своем дневнике, Сенак де Мельян, историк Французской революции, записал, что в ночь на 5 октября 1789 года в Париже также было «много веселья!»{274}.
Когда припозднившиеся гости возвращались с различных вечеринок по домам, они почувствовали, что в городе стало ужасно жутко. Стелла Арбенина заметила это, выйдя из Михайловского театра. Обычно площадь перед театром была полна народу: там сидели в ожидании извозчики, стояли сани и автомобили, чтобы развезти театралов по домам, там же гуляла «веселая толпа закутанных в меха людей». Но в ту ночь площадь была «совершенно пуста», не было ни извозчиков, ни саней, как обычно, и ей пришлось идти домой под лунным светом и при сильной стуже. «То и дело раздавались отдаленные выстрелы, но улицы, по которым мы шли, были совершенно пустынны». Тишина вокруг была зловещей, и «снег под ногами скрипел неестественно громко». Петроград казался вымершим городом.
Клод Анэ тоже заметил этот ложный дух «спокойствия». Петроград был «пустынным, мрачным, почти не освещенным». На каждом перекрестке, охраняя Невский проспект, по-прежнему стояли военные кордоны. То здесь, то там виднелись казачьи патрули, проезжавшие по заснеженным улицам, окутанные клубами белого пара, который валил от спин их лошадей. Как вспоминал Анэ, было такое ощущение, будто идешь сквозь один большой военный лагерь{275}. Норман Армор, допоздна засидевшийся на приеме у Радзивиллов, тоже заметил это, возвращаясь домой на квартиру с видом на Неву: «Я чувствовал себя так, будто я опять оказался во временах Крымской войны», – вспоминал он. Было очень холодно, и «патрули на улицах жгли костры и складывали свои винтовки рядом с ними, так же, как на старинных картинах в Эрмитаже»{276}. Единственным освещением был мощный луч прожектора, установленный на шпиле Адмиралтейства, который скользил вверх и вниз по пустынному Невскому. Проспект в его свете «тянулся вдаль широкой полосой жуткой белизны»{277}.
В Государственной думе в Таврическом дворце весь день шли судорожные заседания. Председатель Думы Родзянко, раздраженный отсутствием ответа от царя, взял инициативу в свои руки и телеграфировал ему в Ставку о серьезности сложившейся ситуации. Он предупредил, что в столице царит анархия, поставки продуктов питания, топлива, а также транспорт находятся в состоянии хаоса. Пытаясь внушить царю ужас перед происходящим, Родзянко утверждал, что правительство «парализовано». Это было, пожалуй, преувеличением и противоречило сообщениям генерала Хабалова, который стремился убедить царя, что ситуация находилась под контролем. Родзянко, однако, настаивал на том, что для разрядки этой опасной обстановки крайне важно незамедлительное формирование нового правительства, к которому народ бы испытывал доверие. Опасаясь переворота в Думе, вмешался премьер-министр Голицын и предвосхитил действия Родзянко по ее роспуску. В ожидании ответа Николая II он приостановил работу Думы. (Николай II, как потом выяснилось, решил, что от него никакого ответа не требуется.) Родзянко был возмущен: он настаивал на том, что Дума является конституционным органом власти в России и приостановка ее деятельности является нарушением российского законодательства. Он призвал своих коллег сплотиться и поддержать его. Как результат, был поспешно организован Временный комитет Государственной думы{278}.
Теперь революция была политически продекларирована как среди представителей власти, так и среди гвардейских полков и истово верных царю казаков. Рабочие, возмущенные безразборчивой стрельбой по толпе, создали свои вооруженные формирования. Весь воскресный вечер они провели, обсуждая планы не только продолжить забастовки и демонстрации, но и захватить оружие, чтобы превратить мирные протесты в вооруженное восстание. «Сегодня с часа дня это воскресенье стало для России кровавым», – написал Дональд Томпсон своей жене, когда он наконец вернулся в тот вечер к себе в «Асторию». Он ходил по улицам по морозу до половины четвертого утра, предъявляя свой американский паспорт, чтобы пройти через баррикады и, время от времени возвращаясь, чтобы согреться. Куда бы он ни пошел в тот вечер, он везде наталкивался на «агрессивного вида толпы». До него дошли слухи о мятеже среди некоторых армейских формирований. «Если это распространится на другие полки, Россия буквально в течение нескольких часов станет республикой», – написал он ей{279}. Теперь все зависело от того, как поведут себя в понедельник настроенные против правительства воинские части, в частности Павловский, Волынский и Преображенский полки. «Мне хотелось бы, чтобы ты отправила мне немного сахара, – добавил Томпсон. – А еще мне нужны таблетки хинина и аспирина». Он чувствовал себя неважно. Но, как оказалось, в течение трех последующих дней у него не будет возможности снова написать ей.
Глава 4
«Случайная революция»
Все воскресенье Лейтон Роджерс и его коллеги из филиала Государственного муниципального банка Нью-Йорка в Петрограде были вынуждены провести в своем офисе на Дворцовой набережной: выходить из здания было слишком опасно. Они сидели там весь день и весь вечер, «прислушиваясь к треску винтовочных выстрелов и к стрекоту пулеметов, гадая, что же все это значит». Им эти звуки казались «хуже, чем это было в действительности», пришел к выводу Роджерс, но они не рисковали без надобности и свет в помещении не включали. Когда стало уже так темно, что они не могли ничего разглядеть, им пришлось прекратить читать и писать письма. К тому времени терпению Честера Свиннертона наступил конец. Коллеги называли его «графом» за вызывающе закрученные усы, которые были под стать браваде этого выпускника Гарварда. Свиннертон вскочил на ноги и заявил с театральным жестом, что они – «замечательная компания американцев» и не должны бояться «небольшой перестрелки». «Что проку сидеть здесь всю ночь? – вопрошал он. – Пуля может влететь в окно и убить любого ровно так же, как и на улице. Я не собираюсь здесь оставаться, я пойду домой, и черт с ней, со стрельбой, и буду спать в нормальной постели. Спокойной ночи!»{280}
С этими словами Свиннертон надел шляпу, пальто и галоши и хлопнул дверью. Но далеко уйти он не успел, так как столкнулся с «каким-то мутным типом», у которого в руках был «довольно большой пистолет, настоящий такой ствол. Не наши курносые револьверчики, а настоящий пистолет, и в его руках эта штуковина мне совсем не понравилась, вот совсем нисколько». Поняв, что он столкнулся с рядовым представителем нового революционного народа, каких много теперь рыскало по улицам с оружием – они с ним и обращаться-то почти не умели, – и видя еще человек пятьдесят или больше поодаль, ведущих беспорядочную стрельбу, Свиннертон решил «дать деру обратно в банк». Его коллеги слышали выстрелы из винтовок и пулеметные очереди, когда Свиннертон ворвался обратно. «Ну, я, пожалуй, пока домой не пойду, – смущенно сказал он. – Там холодно, а здесь тепло»{281}.
В ту ночь, поделив последние сигары и сигареты, они все улеглись как пришлось, накрывшись своими тяжелыми кителями. Но спокойно поспать в такой обстановке – на богато украшенных позолотой диванах под хрустальными люстрами бывшей мавританской гостиной турецкого посольства, располагавшегося в этом здании раньше[48], – было затруднительно, мешало резкое несоответствие пышности этого помещения их нынешней ситуации{282}. Они провели там и весь понедельник, питаясь черным хлебом, щами и чаем. Время от времени кто-нибудь из них выбегал на улицу, чтобы посмотреть, «не видно ли чего», но, обнаружив, что там действительно было на что посмотреть (и даже слишком), снова мчался обратно{283}.