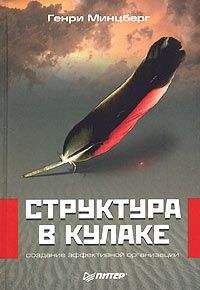— Не туда глядишь! Она вона где! — Настена, задрав остренький носик, повела им влево, и Савва увидел Енафу.
Енафа стояла с девушками, голову держала высоко, словно выглядывала что-то за головами веселящихся ездоков и «лошадок». Улыбалась и смеялась, да только и сама смеху своему не верила — невесть отчего грудь как обручами схватило.
— Подойди к ней, не бойся! — шепнула Настена.
Савве неловко было перед девчонкой труса праздновать, пошел, но в трех каких-то шагах вся его храбрость отхлынула к пяткам, и врос он в землю — не хуже дерева. А Енафа пуще того обмерла. Так и стояли — дуб с рябиной. Если бы не Настена, ветки бы в рост пустили. Однако шустрая сестренка Енафы снова оказалась промеж ними и шепнула:
— Емеля идет! Енафу кататься утянет.
Тут Савва встрепенулся и, опережая соперника, шагнул, раскорячась, к Енафе — ого, какой шаг-то пришлось сделать! И она, глядя перед собой, ледяная, не хуже сосульки, пошла с Саввой мимо надувшего губы Емели.
А как повезли их, как ударил им ветер в лицо, как зазвенел смех веселых возниц, вспыхнула Енафа пламенем. Держала руками Савву за шею, и горячи были дрожащие ее руки, и вся она трепетала, и Савве лихо подумалось:
«Не ходок ты боле, батюшка, по земле!»
И засмеялся! И Енафа, ткнувшись кокошником ему в грудь, тоже засмеялась. Все смеялись на лужку.
Один Емеля чесал ногтями волосатые свои медвежьи лапы.
Потом уж и Савва с Енафою бегали в оглоблях — катали других — и не глянули-то друг на друга ни разу, но уж до того были веселы и охочи до игр, что Настена, жалеючи обоих, головой покачала:
— Ну как телята!
При первых звездах самочинные кони повезли любезных седоков на поле. Савва с Енафой снова ехали.
— Дай в глаза тебе посмотреть! — шепнул Савва.
— Не смею! — жарко прошептала Енафа.
— Милая! — сказал он.
— Держи! — прошептала Енафа. — Не чую себя: кружится все!
На поле девушки повели хороводы.
— А ну-ка, поди сюды! — сказал Емеля, утягивая Савву за ракитов куст.
Несколько парней пошли с ними. Кто-то из них сказал:
— Ты, Емеля, не калечь малого, опять без воды насидимся!
— Да я его, как муху, — ответил Емеля, поднял с земли совсем не малую дубину и треснул себя по башке. Палка так и разлетелась. — Видал?
Савва вдруг шагнул к Емеле, нагнулся и тотчас встал, держа богатыря за ноги над собой.
— Надвое раздеру! — И бросил наземь.
И такая ярость была в этом кротком парнишечке, что все попятились.
Савва повернулся к парням, поклонился им:
— Не сердуйте на меня!
Пошел прочь, в деревню.
Вдруг услышал шаги за собой, оглянулся — Енафа.
— Тебя обидели? — И аж грудью раздался.
— Нет, Саввушка! Нет! — Потупилась. — Нынче все росою умываются… — Подняла глаза несмелые.
— Давай и мы! — тряхнул Савва кудрями.
И они собирали ладонями с травы влагу и умывались. Савва не спрашивал, зачем это, и Енафа объяснила:
— Это на счастье. А теперь я к девушкам пойду.
— Подожди!
Она тотчас и замерла. И он, склонясь к милому лицу ее, поцеловал в губы. И — оживил! Засмеялась она, руками взмахнула, побежала, как полетела, и звенел ее счастливый смех на темнеющем лугу, будто птичья утренняя песенка.
Савва постоял-постоял и пошел в деревню. Шел, голову в небо запрокинув, а с неба ему звезды сияли. И были они не превыше всего, но как сестрички, как братцы: синие — сестрички, белые — братцы, а та, что сияла и красным, и синим, и зеленым-то, та была Енафа — родная душа.
Выпил Савва, придя домой, кринку молока, обнял Авиву, обнял Незвана и пошел на сеновал, а братья-немтыри поглядели ему вослед, потом друг на друга и улыбнулись.
3
Проснулся Савва до солнца. Вспомнил вчерашнее и зажмурился. Губы потрогал — они и теперь теплы были теплом Енафы.
Прыгнул Савва с сеновала вниз и, прихватив заступ, пошел на тягуны, на то место, где сказал Енафе, что вода у нее под ногами.
По дороге вспомнил: нынче особый день — Иванов! Сорвал кустик полыни, сунул под мышку от нечистой силы.
Копал Савва, по сторонам не глядя, словно вода ему самим Богом была обещана.
Может, чудо и пребывает само по себе, но без человека в нем жизни нет, потому что кто же так порадуется небывалому, как не человек. Да и сам-то человек без чуда — колода на двух ногах.
Но вот она — вода, из-под первого удара заступа брызнула. Умылся собственным потом Савва, всю силу земле отдал, боками пыхал, как лошадь загнанная.
Посидел, отдышался и опять в раскоп полез. Одну лопату выбросил, другую, и, хлюпнув, разверзлась земля перед удачливым колодезником.
Сел Савва на дно ямы и заплакал. Не ведал, о чем плачет, но до того горько и счастливо рыдал, что прилетела синичка из лесу, опустилась на край ямы — зачиркала.
— Пей, птаха! — сказал ей Савва и потихоньку выбрался из ямы. — Ты первая пей!
…Ударили в оба колокола на звоннице. Церковка в деревне была крохотная, колокольню тоже поставить не осилили. Колокола пристроили под навесом. Один колокол — пуда на три, другой не больше пуда.
Савва поспешил в деревню со своей радостью: вода, которую он раскопал, была и вкусная, и весьма обильная.
Люди, потревоженные неурочным колокольным звоном, торопились к церкви.
— Война, что ли? — спрашивали друг друга.
— Может, кто из царского рода помер? Торжественно звонят.
У церкви, в ризах, весь потный от скорых сборов и страха, суетился поп Василий.
— Хоругви где?! — кричал он на дьячка. — Хоругвь неси!
— Что случилось, батюшка? — спрашивали попа деревенские люди.
— Пришествие!
— Господи! — Люди таращились на небо, пока кто-то рассудительный не догадался спросить:
— А кто пришествует-то?
— Мощи несут, бестолковые! — накинулся на паству поп Василий. — Мощи митрополита Филиппа!
— К нам?
— В Москву, дурни! В Москву!
И тут к толпе подошел Савва с заступом на плече. В белой рубахе, перемазанный глиной, он так улыбался, что все повернулись к нему.
— Воду нашел! Совсем неглубоко!
Поп Василий всплеснул руками, уронил крест. Пал тотчас на колени, восклицая:
— Господи, чудо! Чудо свершилось! Святитель Филипп воду послал нам, грешным!
Стоя на коленях, встретила деревня Рыженькая гроб святого Филиппа.
Узнав о чуде, Никон сам отслужил молебен над святым источником. Возле воды стояли князь Хованский с Огневым, оба спустившие жирок, поджарые, помолодевшие, хмурые на вид, но втайне довольные — легко по земле ходить стало, себя носить. За московскими боярами топырились местный воевода и власти, духовные и мирские, и дворяне тут были, и всякие прихвостни, монахи соседних монастырей.