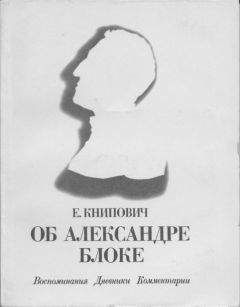У моста мы прощались. Александр Александрович быстро шагал через сугробы, у будки на трамвайной остановке еще раз оборачивался и кивал мне, затем мы расходились.
Как‑то раз, когда мы ныряли между сугробами Александровского сада, Александр Александрович вдруг объявил: «Мне сегодня что‑нибудь выкинуть хочется. Я все думаю пойти на маскарад куда‑нибудь, одеться так, чтобы никто не узнал, и тогда что‑нибудь такое выкинуть… И никто не будет знать, что — я. Очень хорошо». Говорил он это почти печально, смотря куда‑то на вечернюю зарю. Мы вышли на Конногвардейский бульвар, два красноносых мальчишки задирали гимназистов. «Барин, барин, кошку жарил, кошку драну, мышь погану!»
«Вот гады!» — засмеялся Александр Александрович. Тогда я в первый раз услышала от него это слово, для него очень важное, характерное, неотъемлемое. В переводе на общедоступный язык «гад» — синтез многих понятий: и зверь, и животное вообще, и живое существо, то, что движется, кишит, ползает, и ласка была в этом слове, и бесконечная любовь ко всему живому. Об отношении Александра Александровича к «гадам» мне еще многое придется сказать позже.
Через несколько дней мы снова проваливались в какие‑то сугробы. Кажется, возле памятника Петру I. Кстати, уже тогда я стала подмечать в Александре Александровиче одну черту, тоже чрезвычайно для него характерную, — страсть ходить по таким местам, где проходу нет. Если рядом дорожка и сугроб, непременно нырял в сугроб. «Идемте сюда, путь ближе», хотя это бывало совсем не ближе.
В сугробах возле Петра Великого он вдруг сказал мне: «Евгения Федоровна! Я давно уже хочу найти такое место, где бы я мог с вами видаться и говорить. Лучше вечером. И чтобы тепло было. У меня неудобно, и у вас тоже. Хотите, я вас познакомлю с моей мамой?» Я сказала, что боюсь. «Совсем не страшно, — возразил он, — и потом я там буду». На следующий день или через два, мы снова встретились в Тео. «Поздравьте меня!» — весело сказал Александр Александрович. «Почему?» — «Ну, вы сначала поздравьте». — «Ну, поздравляю. В чем дело?» — «Я уже больше не председатель, слава богу! Наконец‑то отпустили». Потом он стал мне рассказывать про только что организовавшуюся тогда «Всемирную литературу», где ему было поручено редактировать Гейне. Радовался он этому страшно. С энтузиазмом, звенящим голосом читал «Nordsee», рукой показывая приливы и отливы ритмических волн. Помню, что сзади Александра Александровича стоял Самуил Миронович Алянский, которому было что‑то нужно от Александра Александровича: он не решался прервать его и только недоверчиво и неодобрительно косился на меня.
Мы вышли на улицу. Александр Александрович стал жаловаться на то, что во «Всемирной» «кирпичей много». «Я профессоров боюсь, — сказал он, — и там, в университете, боялся. Здесь Зелинского, Котляревского боюсь, а там других». Уже у моста он сказал мне: «Приходите к маме завтра, я тоже приду. — Вдруг лукаво улыбнулся: — А может, и не приду, разбирайтесь там вдвоем, как знаете, отчима моего тоже дома не будет».
На другой день вечером я пошла на Пряжку. Александру Андреевну я уже видела на чтении «Катилины». Мыс ней не говорили почти ничего, я ее плохо помнила даже, а у нее обо мне осталось впечатление совсем мрачное (впоследствии она мне о нашей первой встрече на чтении «Катилины» рассказывала так: «Вхожу в комнату, где Сашенька, вдруг вижу, на столе сидит красивая барышня в большой шляпе, губы накрашены и курит. Я так и решила: это Сашенькино новое донжуанство, и когда мы вышли и вы пошли вместе, я прямо подумала — им вслед смотреть нельзя»).
В этот первый вечер мы с Александрой Андреевной сговориться никак не могли: во–первых, ее муж был дома; во–вторых, вскоре пришел А. В. Гиппиус, потом Александр Александрович, потом сестра Александры Андреевны Мария Андреевна. В небольших комнатах квартиры Александры Андреевны Александр Александрович показался мне каким‑то ужасно большим, не комнатным, почему‑то вспомнилась статуя Командора. Вообще, несмотря на легкую, юную походку и на врожденную грацию движений, в движениях и в облике было что‑то статуйное, неподвижное. Было в нем что‑то напоминавшее тех деревянных архангелов и Георгиев Победоносцев, которые дремлют в церквах Нюрнберга и Кёльна.
В этот же период Б. А. Пестовский, бродя со мной по Эрмитажу, предложил мне показать «голову Александра Александровича». На красной бархатной подушке лежала античная мраморная голова, черты были чуть мягче и бездумней, но действительно напоминали черты Александра Александровича.
В каталоге это произведение неизвестного греческого мастера зовется «Головой спящего героя».
В тот первый вечер Александр Александрович показался мне страшно неподходящим к домашней обстановке. Когда мы, сидя рядом как благонравные дети, пили чай, мне хотелось смеяться.
Я стала бывать у Александры Андреевны. Приходил туда и Александр Александрович. Сначала он по–прежнему бывал в Тео, по–прежнему сидели мы в столовой, по–прежнему шли по набережной домой. Часто, прощаясь, он говорил мне: «Приходите к маме сегодня». Я приходила, и он приходил тоже. Но к Александре Андреевне я приходила ради нее самой, зная, что Александр Александрович придет вечером, нарочно приходила раньше, чтобы посидеть с ней вдвоем. (Писать о том, чем она стала для меня, я не буду, она сама это знает.)
Сейчас мне странно то, что я совсем не помню этого периода. Вся весна девятнадцатого года — апрель, май, июнь — выпала из моей памяти. Я знаю только, что это был период внутреннего расхождения, ласковой отчужденности, но я тогда не ощущала этого так остро, как впоследствии. Воспоминания более связные начинаются с конца июня, с того дня, когда я по делу пришла к Александру Александровичу в его квартиру. Снова мы вдвоем очутились в его кабинете.
— Вы давно у меня не были, — сказал Александр Александрович.
— Полтора года, — ответила я. — Вы переставили мебель, диван и стол не так стояли.
— И барышни с гаммами больше за стеной нет, — засмеялся Александр Александрович.
Как‑то остро вдруг вспомнилось первое время знакомства.
— Когда я здесь была в последний раз, я думала, что уже не вернусь сюда, — сказала я.
— Да? — спросил Александр Александрович. — А я знал, что вернетесь.
Потом Любовь Дмитриевна позвала нас пить чай. Лицом к лицу я ее увидела в первый раз. Мне очень понравилось ее лицо, глаза, голос, чуть сутулые плечи, легкая походка. Вся она была такая большая, но ладная и красивая. Я не то что стеснялась ее, но в обращении ее, очень любезном и как бы предупредительном, чувствовалась сильная враждебность, и взгляд был холодным, недружелюбным и недоверчивым. «Вот вы какая?» (…)