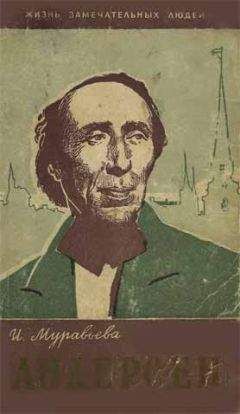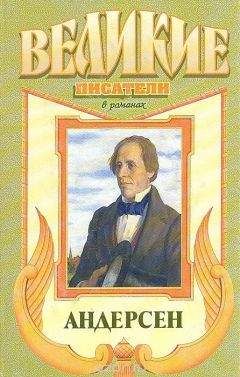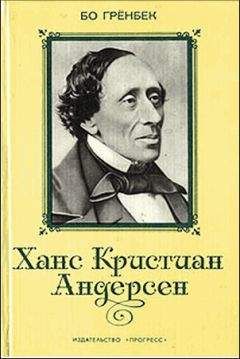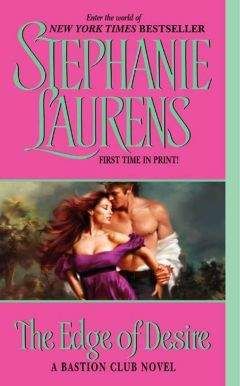— Милый Андерсен, это просто ужасно интересно, и вы мне непременно все прочтете в следующий раз, но сейчас мне придется одеваться: тетя ждет меня, чтобы ехать с визитами. Может быть, вы мне оставите рукопись? Я ее быстро прочту, хотя почерк у вас, признаться, жуткий. Там все будет про разбойников?
— Да, и события самые потрясающие. Виссенберг — это ведь около Оденсе, там до сих пор рассказывают легенды про разбойников, которые скрывались в лесу. Их атаман, прикинувшись знатным господином, стал женихом одной молодой девушки, а потом она попала в разбойничье логово, увидела там кучу золота и драгоценностей, ей удалось спрятаться, когда разбойники пришли и при ней убили пленницу, а отрубленный палец с кольцом покатился прямо под кровать, где она пряталаеь. Эту самую легенду я и использовал, ну и, конечно, от себя порядочно прибавил, вот увидите!
Ханс Кристиан выпалил все это одним духом. Ему хотелось внушить своей слушательнице живой интерес к подвигам разбойников из Виссенберга. Во-первых, он всегда нуждался в сочувствии, а во-вторых…
— Вы правы, почерк у меня отвратительный, — жалобно сказал он, — да и ошибок небось не мало. А я ведь хочу послать трагедию в театр! И вдруг они не станут ее читать из-за того, что неразборчиво написано? Вот досада-то будет!
— Вы, наверно, хотите меня просить переписать рукопись? — догадалась с улыбкой фрекен Лаура.
— Ах, если б вы согласились это сделать… Ведь решается моя судьба, вы же понимаете! Только знайте: это тайна, что я ее посылаю. Никто, кроме меня и вас, не должен об этом знать!
— Тайна? О, это интересно! Нет, нет, я не пророню об этом ни слова. Ну, давайте сюда вашу трагедию, я запру ее в мой туалетный столик и завтра же начну переписывать.
Выйдя на улицу, Ханс Кристиан рассмеялся вслух от радости. Итак, дело сделано! Через несколько дней дирекция получит аккуратно переписанную трагедию анонимного автора. Не могут они остаться равнодушными, прочтя ее: она такая увлекательная!
Немножко совестно, что сегодня он опять пропустил урок латыни, но ведь трагедия важнее! До грамматики ли, когда ищешь волшебную лампу…
Ханс Кристиан неподвижно сидел на берегу озера Пёблинг. Город давно затих, и даже влюбленные парочки, охотно бродившие в этом уединенном месте, отправились спать. Ветер тоже улегся на покой, и озеро казалось стеклянным. Но небо на западе продолжало слабо светиться, и вместо ночной темноты вокруг были обманчивые розоватые сумерки. Белая ночь путала обычные представления о времени.
Во всяком случае, не могло быть сомнений в том, что фру Хенкель видит уже десятый сон, и будить ее стуком было бы весьма неблагоразумно. Но Ханс Кристиан и не собирался идти домой. Вновь и вновь переживал он каждое слово сегодняшней ссоры с Гульдбергом. Теперь он находил убедительнейшие доводы в свою пользу, придумывал неотразимые мольбы о прощении. Но было уже поздно. После того как Гульдберг его выгнал, он не посмеет снова идти объясняться. А если б и посмел, вспыльчивый поэт, возмущенный его поведением, и слушать его не станет… Позор, какой позор!.. Ты на дурном пути, Ханс Кристиан, ты стал бесчестным человеком! Стоит ли жить после этого? Все равно жизнь испорчена, никогда больше не будет хорошо…
Все вышло, разумеется, из-за латыни. Сначала аккуратно ходить на уроки и готовиться к ним мешал балет, потом хор, а теперь еще прибавилось и писание трагедий.
Ханс Кристиан готов был поклясться, что в каждом случае нельзя было поступить иначе. Но Гульдберг был другого мнения, и сегодня гнев, давно накапливавшийся в нем, наконец, прорвался. Как только он не называл своего нерадивого питомца! И легкомысленным невеждой, и жалким комедиантом, и бумагомарателем, а под конец сказал, что он просто неблагодарный лицемер, и это было самое обидное. Лгать и притворяться Ханс Кристиан совершенно не умел, а что касается благодарности — да он ни одного доброго слова, сказанного ему, никогда не забывал!
И все же он не мог отрицать, что Гульдберг вправе был бранить его: когда делаешь добро людям, очень обидно, если они тебя не слушаются. А Гульдберг не только обеспечил его небольшой ежемесячной суммой после краха с Сибони, но и хотел позаботиться о будущем неудавшегося певца. По его просьбе известный актер Линдгрен выслушал декламацию мальчика.
— Чувства у вас много, но актера из вас никогда не получится, — был его приговор. — Лучше всего бы вам заняться латынью: все-таки это шаг к университету.
Тогда Гульдберг устроил Хансу Кристиану бесплатные уроки латыни (это было нелегко: «Латынь — самый дорогой язык», — говорила мадам Германсен), а сам стал заниматься с ним немецким и датским языками. Потом его подопечный вздумал написать трагедию «Лесная часовня», и поэт внимательно прочитывал и правил каждый акт.
Словом, этому человеку Ханс Кристиан был многим обязан. Но одной благодарности оказалось мало, чтобы преодолеть природное отвращение к зубрежке сухих грамматических правил. В том же, что они ему действительно пригодятся, он втайне сомневался: и актеру и поэту можно как-нибудь прожить и без латыни.
Но тут снова рухнули все его надежды: театральная дирекция полностью отказалась от его услуг в качестве хориста и фигуранта и вернула ему «Разбойников в Виссенберге» с весьма неудовлетворительным отзывом. Каким-то непонятным для него путем они узнали, что анонимному автору недостает образования…
Ну хорошо, пусть он даже был бы готов как следует засесть за ученье. Для университета нужно выучить массу всяких вещей, кроме латыни, — это не так быстро, как написать трагедию. И бесплатных учителей для всего не отыщешь. Понадобятся деньги, а где их взять? Гульдберг собрал для него небольшую сумму, но она вот-вот кончится, да и хватает ее только на квартиру и завтрак… Прямо голова крутом идет; хорошо еще, что за писаньем как-то забываешь про все это…
Третий год он полностью зависел от чужой благотворительности, и ему все тяжелее становилось обращаться то туда, то сюда с просьбой о помощи, всегда рискуя получить отказ. Раньше он верил, что всякий человек — разве уж кроме очень злого! — должен охотно заняться судьбой талантливого и бедного мальчика. Оказалось, что это вовсе не так-то просто. Конечно, все время находились люди, относившиеся к нему с искренним сочувствием. Сам Эленшлегер снисходительно принимал его робкое обожание. Радушно встречали его новые знакомые: поэт Ингеман, молодой поэт Тиле, знаменитый физик Эрстед.
Подвижной и энергичный, с живыми пытливыми глазами и улыбкой, полной юмора, Эрстед вовсе не принадлежал к тем педантичным ученым, которые с головой ушли в свою науку и знать не знают, что делается кругом. Его все интересовало: и природа, и люди, и искусство. Поэтому он охотно разговаривал с любознательным мальчиком, с улыбкой выслушивал его мечты, давал ему книги. Но во многих домах его принимали просто, чтобы позабавиться патетической декламацией с фюнским произношением, неловкими манерами и восторженными речами. Комическое впечатление усиливала растущая худоба, слишком короткие рукава и панталоны, странные, связанные движения, вызванные необходимостью скрыть заплату или лопнувший шов.