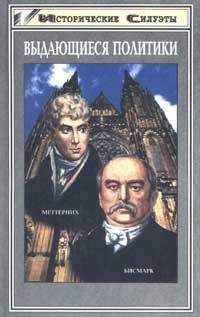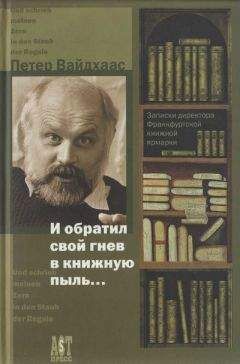На этой глубокой убежденности, которая у него никогда не менялась, которую он даже в предшествующие смутные времена считал пусть и игнорируемой, но незыблемо правильной и в конце концов побеждающей, были основаны его рекомендации и методы. Он проявил удивительную слепоту в отношении тех глубинных социальных, политических, культурных изменений в Европе, которые стали результатом технико-индустриального развития, возникновения рабочих масс, полного распада статичных патриархальных связей и их медленной, но уже ощутимой замены динамичной и всегда мобильной системой функций; короче, он не сумел увидеть, что европеец, в том числе и немец, в этом XIX веке из вросшего в христианско-феодальный порядок превратился в кочевника в самом широком смысле этого слова. Само собой разумеется, что при этом он не обратил внимания ни на “Коммунистический манифест”, ни на Маркса, ни вообще на социально-радикальные движения, которые возникали по всей Европе, и не вступал с ними в фундаментальную дискуссию. В 1843 году он рекомендовал поддержку крупного землевладения как единственно надежного гаранта против революционного переворота, и в 1853 году он не смог предложить ничего иного, чем восстановление полицейского аппарата по карлсбадскому образцу: он убежден, как он заявил в докладной записке, “что развитие собственной службы при высших полицейских инстанциях под четким наименованием социальной относится к самым своевременным надобностям”. Слово “социальный” в понимании Меттерниха обозначает все, что служит для “надзора за нездоровыми волнениями времени”.
Полностью застывшее мировоззрение Меттерниха определило и его отношение к князю Шварценбергу. Оно было двойственным; он признавал значительный государственный размах своего преемника и не скупился на похвалы тогда, когда видел в его действиях продолжение прежней линии, но всегда выступал против, когда Шварценберг направлял свою энергию на осуществление собственных замыслов. Общим для них обоих были воля к сохранению позиций Австрии как великой державы, к сохранению и возрождению Германского союза и укреплению монархического принципа как ядра авторитета государства. Но, с другой стороны, разница в интерпретации была существенной: для Меттерниха великодержавная политика Австрии означала использование особого авторитета австрийского государства в целях сохранения европейского равновесия и, наоборот, укрепление собственной позиции благодаря этому равновесию. Шварценберг же понимал великодержавную политику как жесткую, неизменную конкурентную борьбу, он понимал ее не с точки зрения законности, а империалистически. “Менее строгое истолкование права и применение правовых принципов, – говорил он, – часто становится настоятельным требованием самосохранения”, “лишь поступки, а не правовые принципы могут справиться с фактами”. Это принципиальное мировоззренческое различие проявилось точно так же и в отношении союзной политики. То, что для старого государственного канцлера представлялось системой балансов, гибким дифференцированным образованием, идеальным полем деятельности для опытной венской дипломатии, Шварценберг воспринимал как арену борьбы, где нужно было победить Пруссию. Меттерних постоянно проводил в отношении Пруссии курс партнерского согласия (что временами сводилось к неприкрытому господствующему положению Австрии), Шварценберг же придерживался конфликтного курса с той целью, чтобы с помощью демонстрации и применения военной силы воспрепятствовать сопернику осуществить “малогерманское решение”. Что касалось внутренней политики: рейнландец Меттерних, ставший венцем, видел в Австро-Венгерской монархии руководимое по-немецки и носящее немецкий отпечаток государство, что включало в себя уважение традиционных прав сословий в негерманских землях короны; напротив, Шварценберг, принадлежавший к богемскому высшему дворянству, роду почти династического ранга, считался представителем “австро-славянской” мысли, германо-славянского равновесия в руководстве монархией и придерживался строгого централизма, не считаясь с исторической данностью. Насколько Меттерних отстаивал сильную власть правителя, “самодержавие”, сравнимое с царским, настолько же мало он был приверженцем чисто бюрократического абсолютизма, а административную вседозволенность на грани законности, политику “твердой руки” с виселицами и тюрьмами, как в Венгрии, он отвергал. В конечном счете все сводилось к одной-единственной рекомендации: восстановить “систему Меттерниха”, вернуть все, в большом и в малом, как было между 1814 и 1848 годами. Лишь после своего свержения он стал сторонником “реставрации” в строгом значении этого слова. Он застал еще преемника своего рано умершего преемника, графа Буоль-Шауенштейна, министра иностранных дел с 1852 по 1859 годы, посредственную личность, который был поэтому удобнее, чем Шварценберг, и состоял с ним в переписке; кайзер тоже иногда вежливо прислушивался к великому старцу; до последнего дня, уже на девятом десятке, от него исходили политические предложения, предостережения, мнения, но они уже ни на что не влияли. Он, который почти полстолетия провел на сцене, будучи одновременно актером и режиссером, затем, лишенный своей роли, пытался устроиться за кулисами и занять суфлерскую будку, сидел теперь в ложе, иногда дремал, мечтал, вспоминал, иногда посылал за кулисы письма со своими режиссерскими указаниями или говорил, свешиваясь через ограждение, – но его больше не понимали. Уже играли другую пьесу – или это была старая пьеса, только в новой редакции и с новым составом? Ибо, как он однажды написал, “политика основывается не на новизне, а на истории, не на вере, а на знании”. Он считал, что знает и то, и другое и следует ему: “Моментом, который либеральное мышление обычно оставляет без внимания, является различие, существующее на практике у государств, как и у людей, между ходом событий размеренным порядком и скачками. В первом случае условия развиваются в логической, естественной последовательности, в то время как вторые разрывают связь между этими условиями. Все в природе следует по пути развития, следования событий одного за другим; лишь при таком ходе вещей возможно выпадение дурных веществ и образование хороших. Скачкообразные переходы лишь обусловливают всегда новые творения”.
В своих дневниках Фридрих Хеббель сообщает о визите, который он, находясь в Мариенбаде, нанес 22 июля 1854 года князю в Кенигсварте. Встреча произошла в парке. “Когда мы приблизились, он пошел нам навстречу, и после того как моя жена представилась, пригласил нас сесть. Среднего роста, он держится все еще благородно прямо, и для своих 85 лет (Меттерниху был 81 год) настолько хорошо сохранился, что наверняка проживет до 90, если не больше; подлинно аристократические тонкие черты, в которых есть, однако, нечто привлекательное, и кроткие голубые глаза, несколько влажные, даже слезящиеся. Как все полуглухие, он взял беседу на себя; он рассказывал нам историю своего парка”. О блестящей внешности, особенно молодого Меттерниха, есть множество свидетельств, а склонность самому вести беседу усилилась с возрастом и ухудшением слуха, но существовала всегда. В его монологах, рассудительность которых со временем все больше и больше утопала в многословии, проявлялось самодовольство и некоторая надоедливость: слушание утомляет, только собственная речь приносит радость. Те же черты наблюдались и у старого Гете, это в природе вещей: хочется поведать кому-нибудь о богатстве жизни на вершине общества и времени. Меттерних рассказал поэту о долгой и обширной истории парка, его ансамбля, говорил о старом садовнике, об отношениях с окрестными крестьянами, и все это подробно и в деталях. “Мне кажется, – замечает Хеббель по этому поводу в дневнике, – что я понял одно качество князя Меттерниха, благодаря которому все остальные, как бы значительны они ни были, только и смогли проявиться. Этот человек умеет делать нужное в нужный момент, и это главное; мы пришли, чтобы осмотреть его парк, поэтому он говорил нам о своем парке…"