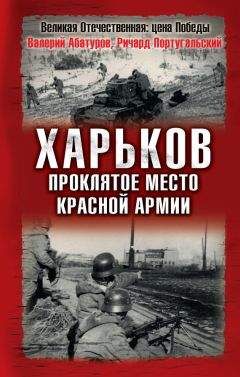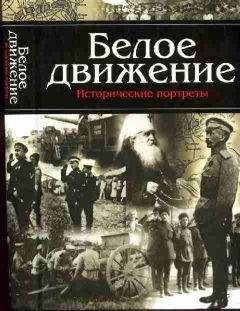Последнее тоже немаловажно, ибо внешний облик генерала становился объектом пересудов не в меньшей степени, чем все остальное. Но обращаясь к мемуарным свидетельствам, мы видим, что на каждое отталкивающее описание опустившегося или не вполне нормального человека находится противоположное, рисующее Слащова жизнерадостным и здоровым (вплоть до рассказа Владыки Вениамина: «Бодрящее и милое впечатление произвел он на меня. Что-то лучистое изливалось от всей его фигуры и розового веселого лица…»), – здоровым за исключением многочисленных ранений, иные из которых – особенно рана в ступню – мучительно тревожили его, также, возможно, заставляя прибегать к болеутоляющим средствам. Слащов, не раздумывая, ставил на карту свое здоровье с той же легкостью, как в бою – свою жизнь, и именно потому, что должен был быть в бою независимо от состояния здоровья. Современник и запомнил его в атаке «в валенке на одной ноге и в сапоге на другой» – нестерпимая боль не позволяла даже надеть сапог…
Ореол славы «спасителя Крыма» продолжал окружать Слащова. 20 августа ялтинская городская дума преподнесла ему звание почетного гражданина Ялты, и в начале сентября Яков Александрович переезжает туда из Севастополя, однако ненадолго. Тревожные слухи о тяжелых боях в Северной Таврии, конечно, не могли миновать его; по приглашению Врангеля генерал приезжает в Ставку, но возвращается разочарованным, не увидев там духа решимости, дерзания, уверенности в собственных силах. В Севастополе же Яков Александрович неожиданно для себя, да должно быть, даже и не догадываясь тогда об этом, сам оказался… угрозой Главнокомандующему: тому показалось опасным внимание публики, окружившее яркую фигуру «генерала Крымского». 20 октября Слащов получил предписание «незамедлительно отправиться в распоряжение генерала Кутепова»; «одновременно, – писал Главнокомандующий, – сообщаю последнему о Вашем выезде и предлагаю использовать Вас для объединения командования частями на одном из участков фронта». Якову Александровичу осталось неизвестным, что «последнему» в действительности, по позднейшему признанию самого Врангеля, было приказано, «чтобы он задержал генерала Слащова при себе, не допуская возвращения его в Севастополь». В штабе Кутепова Яков Александрович и узнал о падении Перекопских и Юшуньских позиций. Но окончательно все испортили, по его мнению, даже не поражения в боях, а приказ Главнокомандующего и объявление Правительства об эвакуации, изданные и распространенные 29 октября 1920 года.
Слащов негодовал, оценивая их как призыв «Спасайся, кто может!» и считая, что именно они сделали остатки Армии небоеспособными. И все же генерал не успокаивался, предлагая Врангелю «из тех, кто не желает быть рабом большевиков, из тех, кто не желает бросить свою Родину, – сформировать кадры Русской Армии, посадить их на отдельные суда и произвести десант в направлении, доложенном вам мною еще в июле месяце и повторенном в моих докладах несколько раз».
Здесь перед нами вновь не просто столкновение двух личностей, а несхожесть принципов борьбы. Для Врангеля, который заблаговременно распорядился готовить эвакуацию, уже было позволительным покидать Россию на неопределенное время и с неопределенными перспективами и фактически отдавать беженцев и, что еще важнее, Армию на милость союзных держав; наступал новый этап борьбы, по-прежнему остающейся антибольшевицкой, национальной, освободительной, но уже отходящей от прежних Белых традиций. Напротив, Слащов – весь в прошлом, во вчерашнем дне героической Белой Легенды, эпохе безумного самопожертвования и несомненной, не подвергаемой обсуждению готовности «победить или умереть» здесь, в России, никуда не уходя с родной земли. В пользу Врангеля говорит спасение от большевицкой расправы, по разным оценкам, 135–150 тысяч человек, но и авантюра Слащова в условиях крайнего измождения сил красных, похоже, имела все-таки некоторые шансы на оперативный успех и могла затянуть войну еще на одну зиму. Победила же, конечно, точка зрения Врангеля, попросту не вошедшего в рассмотрение планов своего порывистого подчиненного. Вместе с Кутеповым Слащов в ночь на 1 ноября возвращается в Севастополь и делает попытку прорваться к Главнокомандующему, но тот, опять же через Кутепова, отказывает ему. И Яков Александрович, взвинченный происходящим на его глазах крушением всего Белого Дела, кажется, начинает приходить к рискованным решениям…
* * *
Обстановка была для него слишком тягостной. Эвакуация Врангеля из Крыма, конечно, по организованности далеко превосходила то, что творилось, скажем, в Новороссийске, – но никакой исход многотысячных людских масс, из которых дисциплинированные воинские контингенты составляли не более трети, по самой природе своей не может пройти совершенно гладко и всегда будет сопровождаться трагедиями, недостатком мест, сутолокой, неразберихой, сломанными человеческими судьбами. На впечатлительного и эмоционального Слащова, не обладавшего беженским опытом и оказавшегося среди такого человеческого водоворота впервые, все это должно было произвести особенно сильное впечатление, достигшее кульминации, когда он столкнулся с остатками Лейб-Гвардии Финляндского полка.
С Финляндцами было Георгиевское знамя, врученное Государем в 1906 году. Священное полотнище удалось пронести через всю Смуту, спасая от большевицкого надругательства, – теперь же, несмотря на личное распоряжение Врангеля, места полку и знамени на кораблях не нашлось; но, когда офицеры уже готовились зарывать в землю полковую святыню, судьба послала им Слащова.
Спасение знамени – честь, о которой мог только мечтать любой солдат и офицер, – стало последним деянием генерала Слащова-Крымского на еще свободной русской земле. Пользуясь своей популярностью среди морских офицеров, он устроил Финляндцев на ледокол «Илья Муромец» и сам взошел на его борт, поскольку назначенного для генерала корабля уже не было в порту. Ко всему этому добавлялись еще страшные подозрения о свившей гнездо в штабах измене, и хотя документальных оснований для таких обвинений нет, субъективные переживания возмущенного и мечущегося Слащова уже толкали его, кажется, на попытку переворота.
Его видят и на рейде Севастополя, и в первые часы изгнания, в константинопольской бухте, – на палубе корабля с рупором в руках. Он что-то кричит; «пытался оправдаться», – заметит много лет спустя один из очевидцев, – но тогда Слащову еще не в чем оправдываться, и он не оправдывается. Он обвиняет. Только теперь, когда все рухнуло, и ни днем ранее, он идет в открытую атаку на Главнокомандующего, которого считает недостойным его поста. И союзника себе Слащов ищет в генерале Кутепове.