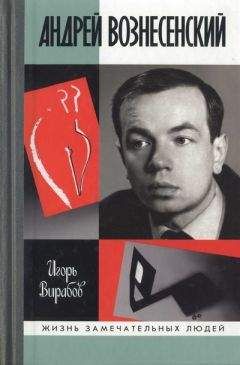Я подхожу к регистратуре, девушка видит, что я иностранка, и пациент — не совсем обычный для них. Объясняю, что он уже час истекает кровью. И его быстро укладывают, три молодых хирурга под местным наркозом начинают рану на голове шить. И вот уже у Андрея на полголовы повязка, которая медленно, но верно намокает кровью. Хирурги говорят: швы снять, не помню точно, ну, дней через пять.
А назавтра он должен участвовать в круглых столах, представлять свои книги на стенде салона… Сколько раз такое было — после аварий, когда он должен был лежать с сильнейшим сотрясением мозга, а он сбегал, потому что надо в издательство, надо куда-то еще. И ничто остановить его не могло — у него служение поэзии носило характер фанатичный… Однажды, когда в девяностых годах к нам в Переделкино ночью забрались три грабителя-наркомана. Приставили мне к горлу нож — а я, зная сумасшедший характер Андрея, боялась пикнуть, чтобы только он не услышал и не примчался сверху, где он спал. Грабители, совсем юные, видимо, думали найти у нас что-то очень дорогое, но наши богатства их заинтересовать не могли. Я говорила, берите, что хотите, только уходите… Потом одного из них, очень скоро, поймали. И я написала заявление, что не имею претензий — не хотела, чтобы этот мальчишка пострадал: у негоже жизнь только начинается… Но я не об этом. Просто вот эта его безоглядность во всем, это нежелание хоть раз по-человечески долечиться, — вот с этим всем в конце концов и связан его Паркинсон, его кончина.
Ну, так было и теперь. Двадцатого мы отправились на книжную ярмарку на встречу с читателями. Отправились — громко сказано. Я помню, как все писатели сидят и смотрят — а я не могу затащить его на себе в автобус. Так бы и смотрели, если бы не Дима Быков — он подхватил Андрея Андреевича и чуть не на руках внес его вместе со мной. Я была очень ему благодарна. А потом на ярмарке надо было идти до павильона пешком — километра четыре… Слава богу, переводчицы меня поняли, усадили его в коляску — он не соглашался, но его усадили… И, можете себе представить, читатели выстроились в очередь, он сидел с абсолютно белым лицом, — но подписал каждому, абсолютно все до последней книги.
В какой-то момент кто-то нам говорит: а вы не идете на вечер, который организовал профессор Никита Алексеевич Струве? Там представляли изданный только что сборник „Русские поэты сегодня“. И Андрей тут же говорит: конечно, поедем.
И вот мы приезжаем, входим. Андрей с перевязанной головой, как раненый боец. Я вижу — рядом со Струве сидит Костя Кедров со товарищи… Они не знали даже, что он упал. Сказали здесь, что он уехал куда-то… Я поддерживаю Андрея за руку, чтобы не упал. И все сто двадцать две телекамеры, что там были, тут же разворачиваются к двери, в которую мы входим — Вознесенский же почетный академик Европейской академии искусств, единственный член Академии Гонкуров (и еще восьми мировых академий), абсолютно известное там лицо. Но прежде чем камеры успели повернуться, Костя уже оказался между мной и Андреем… Это был класс. Будто не я пришла с Андреем, а он, Костя Кедров.
Нет, справедливости ради я должна сказать: он знал Вознесенского наизусть, много писал и рассказывал о нем и о себе. Я же всегда благодарна каждому, кто любит поэзию Андрея. Просто при этом не надо пытаться владеть его телом, его мыслями, его личностью, как никогда не позволяла себе этого я».
ЯМБЫ И БЛЯМБЫ. «Владимир Кочетов, редактор и издатель, работал с Андреем Андреевичем над последней книгой. Когда каждую строчку, каждое слово приходилось угадывать по губам… Он спрашивает Андрея: „Вы сказали ‘полет’?“ Тот качал головой: „Нет“. — „А как?“ И так, пока не поймет или не угадает слово. Фразу за фразой, каждую строчку. На таком подвижничестве этого редактора и самого Андрея создавалась книжка „Ямбы и блямбы“. Я положила Андрею Андреевичу в гроб сигнальный экземпляр, который он успел посмотреть…
Вообще он всегда все читал мне — и мог понять мою реакцию уже по физиономии. Я не выстраивала отношения на том, чтобы потакать или просто поддакивать ему. Но максимум того, что я могла сказать — что-то вроде: „Мне кажется, ты еще можешь подумать“.
Он часто говорил, что лучшая его поэма — „Оза“, но вовсе не факт, что я с этим согласна. Я всегда отрекалась, что в поэме изображена я. Хотя там есть: „Знаешь, Зоя, теперь — без трепа. / Разбегаются наши тропы. / Стоит им пойти стороною, / остального не остановишь…“ Там очень много взято из моей личной жизни, но это все равно художественный, претворенный во что-то образ, которому я абсолютно не соответствую.
У него были очень странные пристрастия. Например, он очень любил свои „Крестики-нолики“ — сборник коротких парадоксальных фрагментиков из жизни крестиков и ноликов. „Крестик был тюремной решеткой. Освободился. Пошел по стране. И только разводил руками“. Или, например: „Джойс назвал женщину флейтой с тремя дырками. Крестик не считал. Балдел от музыки“.
Андрей очень любил детские стихи: „Человек надел трусы, / майку синей полосы…<…>/ По утрам, / надев трусы, / не забудьте про часы“. А тот же Кочетов вспоминает, что Андрей очень дорожил своей поэмой „Я — Аввакум“. „…Многих эта речь оттолкнула, но в ней отблеск того огня, что сожжет самого Аввакума“.
Жить с человеком такой высоты одаренности, как Андрей Андреевич, конечно, непросто. Научил ли он чему-то меня? Прежде всего — любить природу. Дача для меня была заточением: в Москве жизнь кипит, а здесь? Но сейчас я могу сказать: дача в Переделкине — что-то божественное, данное мне для продления жизни и творчества. У меня там и цветочки посажены, между прочим.
Конечно, Андрей научил меня понимать его. Более разных людей, чем он и я, когда мы сбежались, не было. У него есть в „Озе“: „Противоположности свело. / Дай возьму всю боль твою и горечь. / У магнита я — печальный полюс, / ты же — светлый. Пусть тебе светло“. Я действительно никогда не отчаиваюсь, не унываю или не показываю этого. И он как-то погружался в эту мою логику: „Все временны, приходят и уходят, а поэзия вечна. То, что ты делаешь, ты делаешь не только для этого поколения“.
Но противоположны мы были вот в чем. Я — эталон обязательности. Андрей Андреевич считал, что есть нечто главное — и есть второстепенное, чем можно жертвовать. В результате он становился эталоном необязательности.
Вот характерная история. 29-летнему Андрею Андреевичу, мальчишке еще, предложили провести вечер поэзии в Большом зале Консерватории. Он сказал, что выступит, но в восторге улетел в Ялту… Кстати, с Крымом у Андрея Андреевича связано очень много всего. В Ялте случилось наше с ним… сближение. Никитский сад, Массандра — каждое из этих мест могло напомнить ему о чем-то, некогда вдохновившем… Так вот, мне каждый день звонит эта Консерватория: „А где он? Репетировать ему надо, не надо?“ Я отвечаю: „Он будет“. Он мне звонит как ни в чем не бывало: „Милая, как ты?“ И за два дня до вечера я получаю от него телеграмму: „Милая, приехать не смогу. Цветет миндаль“. Всё. Тут раскуплены все билеты, битком набитый зал, звонит администрация, собираются прийти Рихтер, Нейгауз, вся музыкальная элита — а у него „цветет миндаль“? Я не передам уже степень моей тогдашней ярости. Когда он позвонил, я сказала: „Если ты не прилетишь, забудь мое имя“. Он прилетел.