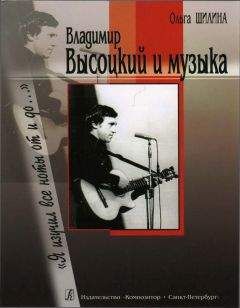Но вернемся к Ларисе Лужиной. «У нас на Удальцова был открытый дом, – вспоминала она, – и Высоцкий мог прийти и в полночь, и в 4 часа утра – когда угодно. Володя с Чардыниным сдружились, нередко устраивали у нас ночные посиделки. Высоцкий пел». Подобные ночные развлечения соседям были не по душе. Однажды они даже нажаловались на Лужину в товарищеский суд (бывали в то время и такие), мол, орут по ночам хриплыми голосами, спать не дают. Тогда «дебоширка» и рубанула заявительницам: «Вас скоро вперед ногами вынесут, а я молодая, хочу жить и слушать хорошие песни!»
Когда Высоцкий познакомился с Мариной, он нередко с Удальцова звонил ей в Париж. И Лариса была уверена: «Его песня «07» тоже посвящена мне. Или – моему телефонному аппарату…» В шутку требовала оплатить переговоры.
Ей, девочке, родившейся с длинными-предлинными волосами, цыганка нагадала, что у нее в жизни будет множество поклонников, но в итоге останется она в одиночестве. Так все и вышло. Пройдя через четыре брака, в конце концов для нее самым близким существом оказался… пудель Лорий Лориевич Лужин. Выходя с ним на прогулку, Лариса повторяла простую молитву: «Ангел мой, пойдем со мной: ты – впереди, я – за тобой».
* * *
Владимир жаловался Золотухину:
– Куда деньги идут? Почему я должен вкалывать на дядю? Детей не вижу. Они меня не любят. Полчаса в неделю я на них смотрю, одного в угол поставлю, другому по затылку двину… Орут… Совершенно неправильное воспитание…
Когда друг, в свою очередь, начинал жаловаться на свои семейные неурядицы, Высоцкий смеялся:
– Чему ты расстраиваешься? У меня все пять лет так: ни обеда, ни чистого белья, ни стираных носков. Господи, плюнь на все и скажи мне. Я поведу тебя на русскую кухню: блины, пельмени и прочее.
И вел… в ресторан «Центральный».
Бытовые проблемы удручали. Раздражал несколько странный уклад жизни семьи Абрамовых, так и не ставшей ему родной. Особенно досаждала мать Люси – женщина, которая всю жизнь спала в лыжном костюме, не признавая простыней… Небольшого росточка, крепко сколоченная. Некоторые злоязыкие вообще болтали, что она занимается штангой, гирями или чем-то в этом роде. Насчет тяжелой атлетики они, конечно, загибали, но Люсина мама действительно была заядлой спортсменкой, даже завоевывала золотые медали на чемпионатах Союза по стрельбе. И когда ей перевалило за семьдесят, запросто побеждала на институтском первенстве в родном МФТИ на Долгопрудном.
Высоцкому, гуляке и «вечному страннику», умотанному бесконечными киноэкспедициями и гастрольными поездками в поисках лишнего рубля, естественно, хотелось налаженного быта, уюта, горячей пищи, чистых рубашек и жены, встречающей у порога («чтобы пала на грудь…»), то есть всего того, что резко бы контрастировало с вынужденно кочевым (в силу профессиональных причин) образом жизни. После «одесско-белорусского» цикла фильмов Владимир уже более-менее нормально зарабатывал. Как Люся была счастлива, когда усилиями ведущего редактора «Мелодии» Юрия Энтина и его начальницы Анны Качалиной удалось пробить гибкую пластинку Высоцкого с песнями из «Вертикали». Тираж был огромный, миллионов шесть, вспоминал Энтин. Люся примчалась к ним – и с порога: «Знаете, вы спасли нашу семью! Мы такой суммы сроду не получали».
– Да помилуйте, Люся, – успокаивал ее Энтин. – Все в порядке. Володе заплатили как поэту, композитору и исполнителю. Это мы ему должны сказать спасибо – раскупили пластинку мгновенно, и наша «Мелодия» выполнила квартальный план.
Но «глава семейства» по-прежнему тихо, про себя недоумевал: «Полотенца лишнего в доме нет, дети «засранные». А «она» – одну сберкнижку профукала, вторую, деньги на кооператив тоже…»
Когда к лету 1968-го финансовое положение несколько стабилизировалось, ему удалось купить кооперативную квартиру, куда перебралась теща. Оставшиеся на Беговой Люся и Владимир впервые задумались о том, как теперь заживут одни, только своей семьей, своим домом. «Володя, – рассказывала Люся, – обдумывал большой ремонт, начертил сам стеллажи и светильники под потолок, огромные, как в метро, на девять мощных ламп – он любил, когда ярко. Он сам нанял рабочих, и на ремонт, и на мебель закупил гору материала (с фанеровкой под красное дерево), – темная мебель, светлый паркет, темные обои и ослепительные светильники…»
«Боялась ли я, что Володя ходил к женщинам? Нет, абсолютно, – уверенно говорила Людмила Владимировна. – У меня и тени этой мысли не было. Боялась ли я, что он может уйти навсегда? Я этого начинала бояться, когда он возвращался. Вот тогда я боялась, что он сейчас скажет – «все»… А потом, когда пришел конец всему, я сразу поняла, что надо уйти. Просто надо было с силами собраться и сориентироваться… Кроме всего прочего – еще и куда уходить? Как сказать родителям? Как сказать знакомым? Это был ужас… Я не просто должна была им сказать, что буду жить одна, без мужа. Его же уже все любили, он уже был Высоцким…»
По поводу первой жены Владимира она высказывалась, как правило, сдержанно: «Я никогда не слышала, чтобы Володя хоть что-то неуважительное сказал про Изу. Когда Иза приезжала в Москву, Володя ездил с ней встречаться, – иногда у тети Жени[4], а чаще у Карины Диодоровой. И никогда Володя не чувствовал, что совершает неблагородный поступок по отношению ко мне. Я Изу совершенно не знала – не то чтобы ревновала, но удивлялась. И зря удивлялась. Может быть, если бы я не удивлялась, Володе никогда в жизни не пришлось бы говорить мне неправду. И если ему приходилось это делать, это на моей совести, а не на его. Это я как перед богом говорю…»
А жалость к нему у Людмилы была душеразрывающей. Она говорила: «Душевзрывающей. Ему по-настоящему бывало плохо… Я его любила. Как своих сыновей. Володя даже мне однажды сказал, что я отношусь к нему не как к мужу, а как к старшему сыну. Возможно, это мой недостаток, но я не разделяла Володю и сыновей».
Но однажды Люся поняла: он влюблен. Сожалела, что не знала в кого. Но понимала, что, конечно, никто бы ей не сказал этого. Ей суждено было стать последней, кто бы об этом узнал. Но понятно было, что это сильное чувство! «Но как бы меня ни рвало на части это ощущение, – говорила она, – что кончается моя жизнь, нельзя было не восхититься красотой этого чувства. Он весь сиял, он был изнутри освещен! Конечно, мне было неприятно, что именно я его цветение каким-то камнем на шее отягчаю и заземляю, укоризной какой-то перед ним торчу. В то же время какие-то мелкие мысли о том, что теперь все мои друзья и я сама потеряют связи с Таганским театром (я ведь многих Володиных друзей любила, считала своими), тоже мучили меня… Страшно трудно было уйти! Моментами я чувствовала, что и Володе очень тяжело на это смотреть, на то, как я собираюсь – и вот-вот уйду, и все не могу решиться…»