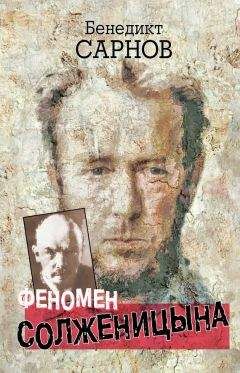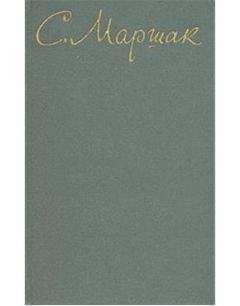Так прямо было и написано: «Государь облегчился». В том смысле, что у него стало легче на душе.
Я, конечно, не сомневался, что Александр Исаевич прекрасно знал, в каком значении нынче употребляется этот глагол. Но ему было на это наплевать. Верный владевшей им фанатической идее «языкового расширения», он решил вернуть ему его первоначальный, исконный, прямой смысл.
Понимая всё это, я тем не менее не мог удержаться от улыбки, закрыл книгу и отложил её в сторону. Решил, что авось удастся как-нибудь заснуть и без нее. И – заснул, чему немало способствовала мягкая немецкая постель, накопившаяся за день усталость, а может быть даже и выпитое перед сном пиво.
Всё это, напоминаю, было спустя четверть века после появления «Ивана Денисовича». И к тому времени поводов к тому, чтобы разочароваться в Солженицыне – и в писательских, и в человеческих его качествах – у меня скопилось уже довольно много.
Но первое недоумение случилось совсем скоро.
В октябре 1965 года, когда Александра Исаевича у нас уже не печатали, в «Литературной газете» вдруг появилась его статья.
Называлась она так: «НЕ ОБЫЧАЙ ДЁГТЕМ ЩИ БЕЛИТЬ, НА ТО СМЕТАНА».
Уже само это название показалось безвкусным: искусственным, натужным, по правде говоря, даже каким-то дурацким.
Начиналась она вполне нормально – хотя, может быть, излишне резкой, но, в общем, довольно убедительной полемикой с появившейся накануне в той же «Литературной газете» статьей академика В. В. Виноградова:
...
Статья академика Виноградова («Литературная газета» от 19 октября с. г.) рождает досадное ощущение: и тоном своим, и неудовлетворительным подбором примеров, и – в противоречие с содержанием – собственным дурным русским языком.
Тон её высокомерен – без надобности и без оснований. Несправедливо истолкованы побуждения старейшего писателя К. И. Чуковского, отдавшего лучшие движения своего таланта прослеживанию жизни нашего языка и поддержке всего живого в нём, будь оно седое или только что рождённое. Тот же обидный тон взят автором и по отношению к Ф. Гладкову, С. Ожегову, Ф. Кузнецову.
Подбор примеров поспешен, поверхностен, лишён стройности. Одни примеры слишком наглядны, слишком школьны для статьи, наметившей себе глубокую и дальнюю цель, другие – несправедливы: Шукшин упрекается за воспроизведение живого диалога, Кетлинская – за употребление прекрасных русских слов «распадок» и «проран», И. Гофф – за изящное обыгрывание ошибки с иностранным неразговорным словом. Главное же: примеры эти все беспорядочно сгружены и не помогают нам усвоить положительную мысль автора – да и есть ли она в статье? – какие же главные пороки и как предлагает он нам преодолеть их в письменной русской речи?
Напротив, своей авторской речью он подаёт нам худой образец. Он не ищет выразительных, ёмких слов и мало озабочен их гибким русским согласованием. Говорить о великом предмете нам бы стараться на уровне этого предмета. Если же «Заметки о стилистике» начинены такими выражениями, как «общесоциальные и эстетико-художественные перспективы», «структурно-стилистические точки зрения», «массовые коммуникации в современной мировой культуре», «в силу значительной интеграции», а для внезапностей устной речи не подыскано лучшего слова, чем «пилюли», – то такие «Заметки» угнетают наше чувство языка, затемняют предмет вместо того чтобы его разъяснить, горчат там, где надо сдобрить.
(Александр Солженицын. Собрание сочинений. Том десятый. Вермонт. Париж. 1983. Стр. 467–468)
Это всё – про дёготь , которым академик Виноградов (и как вскоре выяснится, не он один) не только сам портит, но и других призывает портить наши русские «щи».
А вот какой, втолковывал он, должна стать годная для заправки этих «щей» сметана :
...
Кто скажет убывь (действие по глаголу), нагромоздка? Обязательно: «убывание», «нагромождение». Кто напишет для сохрану? Нам подай «для сохранения». И приноровка нам не свычна, то ли дело «приноравливание»! И перетаск мебели нам не так надёжен, как «перетаскивание».
Образование существительных склейкой по два, по три вместе («речестрой» Югова, «Литературная газета» от 28 октября с. г.) – тоже ведь не наше. Со взгляду кажется: речестрой! ах, как по-русски! Ан – по-немецки...
И избыток отвлечённых существительных – это тоже не наше, надо искать, как содержать их во фразе поменьше.
Оставалась втуне и чисто русская свобода образования наречий, в которых таится главный задаток краткости нашего языка. Таких, как вперевёрт, вприпорох (о снеге, песке), понять дотонка (во всей тонкости), скакать одвуконь (то есть на одной лошади верхом, а другую ведя для смены рядом).
Мало использовалось преображение глаголов приставками, почти от каждого застыло лишь несколько главных форм, и нас теперь поражает такое простое сочетание, как: он остегнулся (нам понятнее: он застегнулся, попадая петлями на несоответствующие пуговицы). Мы усвоили, что можно на-клонить, от-клонить, при-клонить, но нас почему-то удивляет рас-клонить (ветви); приняв «уклониться», мы чураемся уклонить (кого, что)...
...Мы усвоили «отшатнуться», несколько дичимся формы «отшатнуть», а как хорошо употребить: вышатнуть (кол из земли), пришатнуть (столб к стене).
У нас затвержено «недоумевать», но мы зря бы ощетинились против доумевать (доходить упорным размышлением).
Как коротко: узвать (кого с собой); призевался мне этот телевизор; перемкнуть (сменить замок или перенести его с одной накладки на другую); мой предместник (кто раньше занимал моё место); ветер слистнул бумагу со стола (вместо: порывом ветра бумагу приподняло и снесло со стола); перевильнуть (в споре со стороны на сторону).
Употреби – и, пожалуй, зашумят, что словотворчество, что выдумывают какие-то новые слова. А ведь это только бережный подбор богатства, рассыпанного совсем рядом, совсем под ногами.
(Там же. Стр. 469–471)
Над всеми этими его предложениями можно было бы разве что посмеяться. И даже и не посмеяться, а только лишь усмехнуться, что, кстати сказать, мы (я и два моих соавтора по пародийному цеху) тогда тотчас и сделали:
...
Давно целился я на Марьину Рощу, да как-то всё дороги не ложились. И то сказать: в Британской энциклопедии про неё ни словом, да и в летописи не в каждой сыщешь, – хотя по пятому веку место это русскому духу и русскому уху гульче звучало, чем по двадцатому Лужники.
Но ленивы и нелюбопытны мы искони. Сидим у «телика», в коем лица перекаженные мреют как бы попьяну, толчемся в человечьей заверти, а нет чтобы присесть на пеньке, без помех подумать: кто она, Марья эта, от кого есть пошла Марьина Роща.