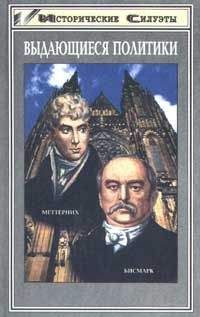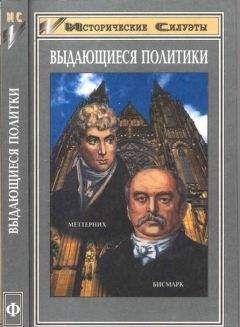Аминь.
Фридрих-Вильгельм».
* * *
Неудовольствие моими отношениями с Наполеоном происходило из понятия, вернее, из слова «легитимизм»; в современном смысле оно было сформулировано Талейраном, который в 1814 и 1815 гг. весьма успешно, будто магическую формулу для отвода глаз, использовал это слово в интересах Бурбонов. По этому поводу привожу здесь кое-какие отрывки из моей переписки с Герлахом, относящейся к более позднему периоду, однако велась она по поводу, который явствует уже из вышеприведенных выдержек.
«Франкфурт, 2 мая 1857 г.
…Будучи единодушен с вами в вопросах внутренней политики, я совершенно не могу усвоить ваш взгляд на внешнюю политику, заслуживающий, на мой взгляд, упрека в игнорировании реальностей. Вы исходите из того, что я как будто жертвую принципом ради единичной личности, импонирующей мне. Возражаю как против первого, так и против второго. Этот человек совсем мне не импонирует. У меня слабо развита склонность восхищаться людьми, да и глаза у меня так странно устроены, что я лучше различаю недостатки, нежели достоинства. Если мое последнее письмо написано в несколько приподнятом тоне, то прошу считать это лишь риторическим приемом, которым я хотел подействовать на вас. В том, что касается принципа, который я якобы принес в жертву, не могу представить себе вполне конкретно, что вы именно имеете в виду, и прошу вернуться к этому пункту в одном из последующих писем, ибо мне не хотелось бы принципиально разойтись с вами. Если же вы подразумеваете под этим принцип, который надлежит применить к Франции, ее легитимизму, то я утверждаю, естественно, что вполне подчиняю его моему специфически прусскому патриотизму; меня интересует Франция лишь в той мере, в какой она влияет на положение моего отечества; мы способны вести политику лишь с такой Францией, какая существует, и не исключать ее из политических комбинаций. Легитимный монарх, как например Людовик XIV – такой же враждебный элемент, как Наполеон I, и вздумай нынешний преемник Наполеона отказаться от трона и как частное лицо удалиться на покой, этим он не сделал бы нам никакого одолжения, и Генрих V [126] не наследовал бы ему; если даже его посадить Генриха V на вакантный, незанятый трон, ему на нем не удержаться. Как романтик, я мог бы пролить слезу об его судьбе; будь я француз, я был бы его верным слугой, но Франция, кто бы ее в данный момент ни возглавлял, останется для меня лишь фигурой, и притом неизбежной фигурой, в шахматной игре, которая называется политикой, и в этой игре я призван служить только моему королю и моей стране. Мое понятие о долге не дает мне оправдать ни в себе, ни в других людях проявления симпатий и антипатий к иностранным державам и лицам, служащим на поприще внешней политики, так как здесь таится зародыш неверности в отношении к монарху или стране, которой мы служим. Тем более, если кто-то начинает делать зависимыми от этого уже существующие дипломатические отношения и поддержание согласия в мирное время; здесь, на мой взгляд, заканчивается любая политика, и действует только личный произвол. Я убежден, что даже король не имеет права подчинять интересы отечества личным чувствам любви или ненависти к чужому; однако он несет ответственность перед богом, а не передо мной, и я этого вопроса не касаюсь. Или, может быть, вы находите принцип, которым мне якобы пришлось пожертвовать, в формуле: пруссак обязан быть противником Франции? Как следует из вышесказанного, мое отношение к иностранным правительствам определяется лишь пользой или вредом, какой может, на мой взгляд, произойти отсюда для Пруссии, а не косными антипатиями. Исключительно прусская особенность, политика чувства, совсем не встречает взаимности; любое другое правительство руководствуется в своих действиях только своими собственными интересами, как бы ни старалось оно их приукрасить правовыми или сентиментальными рассуждениями. Они милостиво принимают излияние наших чувств, их используют, в расчете на то, что они не позволят нам уклониться от их подобного использования; в соответствии с этим с нами и обращаются, то есть нас даже не благодарят, а просто считают за удобного глупца. Мне кажется, вы согласитесь со мной, если я скажу, что наш престиж в Европе теперь уже не тот, каким он был до 1848 г.; думаю даже, что все время с 1763 по 1848 г. [127], – разумеется, за исключением периода с 1807 по 1813 г. [128], – он был выше, чем сейчас. Я признаю, что в соотношении наших сил с другими великими державами мы до 1806 г. были сильнее в смысле агрессии, чем теперь, но не с 1815 по 1848 г. Тогда почти все были тем же, чем они являются до сих пор. А нам приходится сказать словами пастушка из стихотворения Гете: «Я вниз в долину спустился, но сам не знаю как» [129]. Я не имею ввиду, что я это знаю, но многое, без сомнения, заключается в следующем обстоятельстве: мы не находимся ни с кем в союзе и не ведем никакой внешней политики, – то есть активной политики; мы лишь подбираем камешки, залетающие в наш огород, и счищаем падающую на нас грязь по мере наших сил. Когда я говорю о союзах, я не подразумеваю под этим союзов оборонительных и наступательных, ведь пока миру не угрожает опасность, но все-таки намеки на возможность, вероятность или намерение заключить тот или иной союз на случай войны, примкнуть к той или иной группировке – как раз эти намеки и лежат в основе влияния, которым какое-либо государство может теперь пользоваться в мирное время. Тот, кто может в случае войны очутиться в слабейшей группировке, склонен быть сговорчивее; тот, кто совсем изолируется от других, тем самым отказывается от влияния, особенно если это самая слабая из великих держав. Союзы – это выражение общности интересов и намерений. Я не знаю, имеем ли мы сейчас какие-либо осознанные цели и намерения в политике; но то, что мы имеем интересы, нам наверняка напомнят другие. Мы же можем пока рассчитывать на союз только с теми, чьи интересы наиболее многообразно пересекаются и даже сталкиваются с нашими, то есть на союз с германскими государствами и с Австрией. Если мы намерены ограничить нашу внешнюю политику этим, то нам придется привыкнуть к мысли, что наше влияние на европейские дела в мирное время будет сведено до семнадцатой части голосов в узком совете Союзного сейма [130], а в случае войны мы останемся во дворце Турн-и-Таксис [131] одни с союзной конституцией в руках. Я спрашиваю вас: скажите, есть ли в Европе хоть один кабинет, кроме венского, который бы так кровно, естественно был заинтересован в том, чтобы не допускать усиления Пруссии, и, напротив, уменьшить ее влияние в Германии; есть ли еще хоть один кабинет, который преследовал бы эту цель более ревностно и искусно, который с таким хладнокровием и цинизмом руководствовался бы вообще в своей политике только собственными интересами и который дал бы нам, России и западным державам столько исчерпывающих доказательств своего коварства и ненадежности в качестве союзника? Стесняется ли Австрия входить в любые соглашения с заграницей, отвечающие ее выгодам, или даже открыто угрожать ими членам Германского союза? Считаете ли вы императора Франца-Иосифа натурой, способной к жертвам и преданности вообще, а ради чуждых Австрии интересов – в особенности? С точки зрения «принципа», видите ли вы какую-нибудь разницу между его буольбаховским образом правления и наполеоновским? Наполеон сказал мне в Париже, что ему, «всячески старающемуся покончить с системой чрезмерной централизации, основанной в низшей инстанции на полицейском писаре и которую я считаю одной из главных причин всех несчастий, постигших Францию», крайне странно видеть, как Австрия стремится к такой централизации всеми силами. Прошу вас далее ответить мне, не отделываясь уклончивыми выражениями: существуют ли еще правительства помимо Австрии, которые считали бы себя менее обязанными сделать что-либо для Пруссии, кроме как средние немецкие государства? В мирное время они испытывают потребность играть роль в Германском союзе и в Таможенном союзе, оберегать свой суверенитет у наших границ, ссориться с фон дер Хейдтом. Но во время войны их поведение по отношению к нам обусловливается боязнью или недоверием; даже ангелы не смогут искоренить в них это недоверие до тех пор, пока существуют географические карты, на которые можно взглянуть. Еще один вопрос: неужели и вправду вы и его величество король полагаетесь на Германский союз и на его армию в случае войны? Я не имею в виду революционную войну Франции против Германии, которая находилась бы в союзе с Россией, но войну интересов, когда Германия с Пруссией и Австрией оказались бы предоставлены самим себе. Если вы надеетесь на это, тогда наш спор продолжать невозможно: значит, мы с вами исходим из совершенно разных оснований. Что дает вам право предполагать, будто великий герцог Баденский или Дармштадтский, король Вюртембергский или Баварский, в интересах Пруссии и Австрии, возьмут на себя роль Леонида [132], если никто ни в малейшей степени не верит в единодушие и взаимное доверие между Пруссией и Австрией, и они далеко не превосходят противника силой? Вряд ли король Макс заявит Наполеону в Фонтенебло [133], что только ценой его жизни император перейдет границу Германии или Австрии. Я был крайне удивлен, узнав из вашего письма, что австрийцы заявляют, будто бы они сделали для нас в Нейенбурге [134] более, чем французы. Так нагло лгать способна только Австрия. Австрийцы не могли бы ничего сделать, даже если бы хотели, и тем более ради нас не стали бы иметь никаких дел с Францией и с Англией. Напротив, они мешали нам, как только могли, в вопросе о пропуске войск; они очерняли нас, восстановили против нас Баден, а затем были против нас, заодно с Англией, в Париже. Мне передавали и французы и Киселев, что во всех переговорах, где Гюбнер присутствовал без Гацфельдта, – это как раз были переговоры по решающим вопросам, – он всегда первый присоединялся к протестам англичан против нас; после выступала Франция, а уже за нею – Россия. Вообще-то, с какой стати стал бы кто-нибудь в вопросе о Нейенбурге действовать в нашу пользу и отстаивать наши интересы? Разве можно было ожидать что-нибудь в награду от нас или в противном случае бояться нас? Лучше, чтобы другие ожидали от нас политических действий единственно из чувства всеобщей справедливости или из желания угодить, – мы не в праве ожидать этого от других. Если наше решение состоит в том, чтобы и дальше оставаться изолированными, если мы хотим, чтобы с нами никто на считался и при случае третировали, то я, естественно, не в силах этому помешать. Если же мы хотим восстановить наш авторитет, то этого добиться нельзя, так как мы закладываем фундамент нашего будущего только на песке Германского союза и спокойно ожидаем обвала. Пока мы все уверены, что часть европейской шахматной доски закрыта для нас по нашему собственному желанию и что мы из принципа связываем себе одну руку, хотя другие пользуются обеими руками в ущерб нам, – нашим добродушием будут пользоваться без страха и без благодарности. Ведь я вовсе не призываю, чтобы мы заключили союз с Францией и конспирировали против Германии; но разве не разумнее быть с французами в дружеских, а не в холодных отношениях, пока они нас не трогают? Мне бы только и хотелось, чтобы другие не считали, что они могут брататься с кем угодно, когда мы скорее дадим вырезать ремни из нашей кожи, чем станем защищать нашу кожу с помощью Франции. Учтивость – недорогая валюта, и если ее ценой получится добиться хотя бы того, что другие перестанут считать, будто они всегда могут полагаться на Францию против нас, а нам все время нужна помощь против Франции, то одно это будет большим выигрышем для мирной дипломатии. Если мы игнорируем это средство и даже поступаем вопреки ему, то не знаю, может быть, лучше сэкономить и сократить расходы на дипломатию, так как эти люди при всем своем старании не добьются того, что может сделать без особых усилий король, а именно – возвратить Пруссии достойное положение в мирное время иллюзией дружественных отношений и возможных союзов. Также его величество способен без труда затормозить всю работу дипломатов демонстрацией холодных отношений. Чего же могу здесь добиваться я или любой другой наш посланник, когда мы производим такое впечатление, что у нас нет друзей или что мы надеемся на дружбу Австрии. Говорить, не вызывая насмешек, о поддержке со стороны Австрии в каком-нибудь важном для нас вопросе можно только в Берлине. Да и там мне известен лишь очень ограниченный круг людей, которые бы без горечи говорили о нашей внешней политике. У нас только одно средство от всех бед: броситься на шею графу Буолю и излить ему нашу братскую душу. Когда я еще был в Париже, некий граф NN потребовал развода со своей женой, бывшей наездницей, ввиду нарушения супружеской верности, когда застиг ее на месте преступления в двадцать четвертый раз. Адвокат превозносил его на суде как образец галантного и снисходительного супруга. Но и этому графу не сравниться с нашим великодушием в отношении Австрии. Собственные недочеты отражаются на нашем внутреннем положении не тяжелее, чем завладевшее всеми гнетущее чувство утраты нашего престижа за границей и совершенно пассивной роли нашей политики. Мы – тщеславная нация, нас огорчает, когда нам нечем похвастаться, и ради правительства, которое создаст нам вес за границей, мы можем стерпеть многое и многим поступиться, даже кошельком. Но если нам приходится признаться, что внутри страны мы скорее благодаря хорошему здоровью справляемся с болезнями, прививаемыми нам врачами из правительства, чем лечимся и соблюдаем здоровую диету по их предписанию, то было бы бессмысленно искать утешения в нашей внешней политике. Ведь вы, глубокоуважаемый друг, в курсе нашей политики. Так можете ли вы указать какую-нибудь цель, к которой стремилась бы эта политика, хотя бы какой-нибудь план на несколько месяцев вперед? Даже при данных обстоятельствах знают ли там, чего им собственно нужно? Знает ли это кто-либо в Берлине? Вы и вправду считаете, что у руководителей какого-нибудь другого государства также отсутствуют положительные цели и взгляды? Далее, можете ли вы мне назвать хоть одного союзника, на которого могла бы рассчитывать Пруссия, если бы дело сейчас дошло до войны. Или который бы высказался в нашу пользу в таком вопросе, как, например, Нейенбургский. Или который сделал бы что-нибудь для нас, рассчитывая на нашу помощь или опасаясь нашей враждебности? Мы самые добродушные, самые безопасные политики, и нам при этом, по сути, никто не верит. Нас считают ненадежными друзьями и неопасными врагами, будто мы в делах внешней политики делаем все, как Австрия, и во внутренней так же больны, как она. Я не имею ввиду текущий момент; но можете ли вы назвать мне хотя бы какой-нибудь позитивный план (оборонительных – сколько угодно) или какую-нибудь цель в нашей внешней политике со времен проекта Радовица о союзе трех королей. Правда, был проект с заливом Яде [135], но он остается до сих пор не осуществленным. И Австрия любезнейшим образом вытянет из-под нашего контроля Таможенный союз, ибо мы не решимся наотрез сказать «нет». Удивляюсь, откуда еще находятся дипломаты, у которых хватает смелости иметь свое мнение и не угасло еще деловое честолюбие. Наверное, я скоро, как и многие мои коллеги, ограничусь тем, что буду без лишних слов исполнять получаемые инструкции, присутствовать на заседаниях и уклоняться от участия в общем ходе нашей политики. Так ведь и здоровье сохранишь, и меньше изведешь чернил. Вы, наверное, подумаете, что я все вижу в черном свете с досады, что вы не разделяете моих воззрений, что я резонерствую, как скворец, но столь же ревностно, как и свои идеи, я стал бы отстаивать и чужие, только бы они были. А чтобы и дальше так прозябать, нам вовсе не нужен весь аппарат нашей дипломатии. Жареные рябчики, которые летят нам прямо в рот, и так не промахнутся; однако даже и это может случиться, если мы не сделаем усилия вовремя раскрыть рот, если только зевнем в эту минуту. Я же хочу одного: не избегать таких шагов, которые способны в мирное время создать у иностранных кабинетов впечатление, что мы не в плохих отношениях с Францией, что им не следует рассчитывать, будто нам необходимо их содействие против Франции, и по этой причине прижимать нас. И уж если с нами пожелают обойтись недостойным образом, то мы будем способны на любые союзы. Я настаиваю, что эти преимущества мы нам доступны в обмен на одну лишь учтивость и видимость взаимности. И теперь пусть мне докажут, что это не сулит нам никаких выгод и что нашим интересам больше отвечает такое положение, когда иностранные и германские дворы имеют причину исходить из предположения, что мы при любом раскладе должны быть вооружены против Запада и нуждаемся в союзах, а, может быть, даже в помощи против него. Пусть мне докажут, что нам следует избрать такую ситуацию даже в том случае, когда эти дворы пользуются подобным предположением в качестве основания для направленных против нас политических действий. Или пусть мне предоставят другие программы и цели, несовместимые с видимостью дружеских отношений с Францией. Не знаю, имеет ли правительство какой-либо план (который мне неизвестен), – я не думаю. Но когда отказываются от дипломатического сближения, предлагаемого великой державой, и регулируют политические отношения двух великих держав, руководствуясь лишь симпатиями или антипатиями к отдельным лицам и порядкам, менять которые не в нашей власти и воле, то я отреагирую весьма сдержанно. Я скажу: не могу согласиться с этим как дипломат и при подобной организации внешних отношений нахожу лишним и реально отмененным все дипломатическое ведомство, вплоть до консульской службы. Вы скажите: «Этот человек наш естественный враг. Скоро станет очевидно, что он именно такой и таким останется». Я мог бы возразить или на тех же основаниях заявить: «Австрия и Англия – наши противники; этот факт давно уже обнаруживается со стороны Австрии естественным образом, со стороны Англии – неестественным». Оставив это в стороне, допустим даже, что вы правы. Я однако не могу признать политически рациональным показывать наши опасения другим государствам, включая сюда Францию, еще в мирное время. Напротив, я считаю, что, пока не произойдет предвещаемый вами разрыв, было бы желательно дать понять другим, что мы не считаем войну с Францией неминуемой в более или менее близком будущем, что такая война не является чем-то неразрывно связанным с положением Пруссии, что сложные отношения с Францией – это не органический недостаток, не врожденный порок нашей природы, на котором всякий может безнаказанно спекулировать. Пока все думают, что мы холодны с Францией, до тех пор и коллега по союзу будет в этом вопросе холоден со мной…