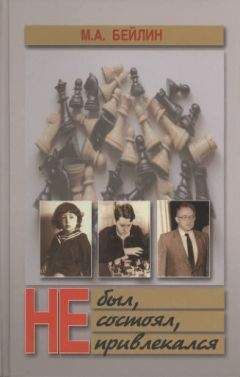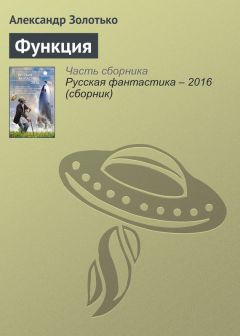Не доезжая более ста километров до Сталинграда, начиналась зона разрухи. От станции Арчеда еще не восстановили водокачки. Март, первый весенний месяц, но поля заснежены. Эшелон остановился, и перед глазами возникла невероятная, какая-то циклопическая картина: огромное поле усеяно битой военной техникой. Множество танков, орудий, даже сбитый немецкий «Юнкерс» – транспортный самолет. Непонятно, как все это очутилось на одном поле.
Молодой офицер попутчик сбегал к этому «Юнкерсу» и по ребячливости притащил показать пробитый немецкий шлем, а в нем кусок замерзшего мозга.
Разные люди встречаются по пути. Молодой майор успел получить недавно введенные золотые погоны, полон надежд на дальнейшее восхождение по офицерской лестнице. Раненый и подлеченный солдат направляется на поправку домой. Он недоумевает, что не был убит… Эшелон стал на станции Бекетовка. Это уже вроде бы Сталинград. Стоит долго, и мы с товарищем решили сходить в областную прокуратуру. Она в Бекетовке. И разное видим по дороге. Удивляют уцелевшие большие кирпичные дома. Еще удивительнее ребятишки, играющие подле барака. Играют наперекор всему. Как они уцелели?
На заснеженной дороге раздавленный труп в немецкой шинели. Его не убирают, через него едут автомашины, трамбуют.
Конвоируют военнопленных. Один, идущий позади, отстает, и конвоир ударяет его сзади прикладом по голове. Звук удара, твердым по твердому. И двое пленных сразу подхватывают его подмышки, чтобы не упал.
В прокуратуре коллега угостил нас водой. Достал кувшин из канцелярского шкафа.
Эшелон потихоньку проехал город и остановился на станции Сарепта. Я спрыгнул из вагона и пошел к станции. Пересек платформу и шагнул в ту самую калитку, что была здесь и полтора десятка лет тому назад. Я вдруг узнал ее и почувствовал себя маленьким мальчиком. Я иду в поселок, в кулачке у меня зажата монетка, которую дала мама, чтобы я полакомился мороженым. Его продает мороженщик на главной улице, где по краям растут желтые акации… А мама смотрит в окно, как я осторожно пересекаю все двенадцать путей.
«Все сочинил» – может подумать иной скептик, но в том-то и дело, что все было именно так, хотя я не склонен к мистике.
Вспышка памяти, когда я шагнул в калитку, осветила давно забытое. Вот отец несет меня на руках в дом, где предстоит жить. Зима. У меня жар. В поезде я опрокинул стакан кипятка на ногу. Кожа вспузырилась. На станции Грязи меня отнесли в медицинский пункт. Там остригали пузыри кривыми ножницами, перевязывали, и было больно. В Сарепте, в доме, хозяевами которого были Долгополовы (странно, что я запомнил фамилию), я долго лежал в небольшой кроватке, деревянной. Мне было больно, когда перевязку делал фельдшер. Отцу посоветовали пригласить местного лекаря. Это был маленького роста мужчина с небольшой бородкой. Он говорил со мной тихим голосом, ласковым. Мазал обожженные места какой-то мазью гусиным перышком. Мне не было больно. Было хорошо. Про этого доброго человека я слышал, родители говорили, что раньше он служил в церкви.
Когда я был послушным, мне давали в кроватку берданку. Я с наслаждением щелкал затвором, целился, воображал охоту.
Потом все прошло, и настала Пасха. Неподалеку от дома по узкой канаве быстро текла вода. Через канаву была переброшена какая-то железная рама. Я с увлечением перебегал по ней через канаву и, наконец, свалился в холодную воду. Неподалеку по случаю праздника отдыхали взрослые. Они немедленно выудили меня, и я с ревом, сопровождаемый дружным смехом, побежал домой. Дома мама раздела меня, растерла водкой, укутала и уложила в постель. Напоила горячим чаем. Я успокоился и на всякий случай спросил: «Мама, я не умру?». Не умер и продолжал резвиться.
Летом хозяйская кобыла Машка родила жеребенка. За домом был лужок. Он казался мне большим. Через несколько дней я резвился на нем вместе с жеребенком. Мы друг друга понимали, и нам было весело. Правда, когда я попытался сесть верхом, он взбрыкнул и слегка поцарапал мне кожу на животе. Мама, укладывая меня спать, увидела ссадину и спросила: «Откуда это?» Я, конечно, молчал, как партизан на допросе.
Любопытно устроена память.
Быть может, правда, что в предсмертную минуту промелькнет вся прожитая жизнь?
Непохожие прокуроры
Окончив два из четырех курсов Юридического института Прокуратуры СССР, я оказался народным следователем прокуратуры Красновишерского района Пермской, а тогда Молотовской области. Район северный, прокуратура маленькая – прокурор, следователь, секретарь и уборщица.
В каникулы, в институтские годы, студенты, случалось, ездили в однодневный дом отдыха. Помню в электричке мы горланили:
Трусов родила наша планета
Все же ей выпала честь!
Есть прокуроры, есть прокуроры
Есть прокуроры, есть!
Это была подредактированная песенка мушкетеров из детской радиопередачи. Я был убежден в необходимости торжества Права, с большой, конечно, буквы. И вдруг мой первый в жизни начальник, Михаил Митрофанович Ильиных, как-то сказал мне: «На нашу прокуратуру можно повесить замок, и ничего в районе не изменится».
Михаила Митрофановича я стал уважать, как только с ним познакомился. Он, по собственным словам, окончил четыре класса и пятый коридор. При этом грамотно писал, да еще красивым почерком. Он происходил из коренных уральских крестьян. Фамилия, как он объяснил мне, свидетельствовала о том, что его предки принадлежали помещику Ильину. Чьи крестьяне? Ответ – Ильиных.
У Михаила Митрофановича было продолговатое лицо, тонкие черты. А руки, как мне казалось, были похожи на руки пианиста. Он и в самом деле обладал музыкальным слухом. Здоровье у него было неважным. Страдал туберкулезом легких. Но болезни своей не боялся и ею не бравировал. У него была хорошая жена и трое детей. Честным он был по натуре.
В 1938 году Михаила Митрофановича исключили из партии, но он не погиб, его не посадили, потому что наступил отлив в кампании репрессий и обком его в партии восстановил.
Он иногда неправильно, по-уральски, ставил ударения. Говорил, к примеру, прОтокол. Эрудитом он не был. Однако, по моему разумению, был интеллигентом. Слово это, как известно, непростое и в русском языке наполнено особым смыслом.
Так что мнение о том, что на районную прокуратуру можно повесить замок в чьих-либо устах мне показалось бы нелепой.
А то, что это сказал Михаил Митрофанович, заставляло задуматься. Год с лишним я проработал в Красновишерске, затем меня перебросили на Северный Кавказ. За долгие годы мы обменялись несколькими письмами. В конце концов Михаил Митрофанович оставил прокуратуру и перешел на хозяйственную работу. Он умер немолодым человеком. Его старший сын Володя стал музыкантом. Он жил в Подмосковье и как-то навестил нашу семью. Он был похож на отца.