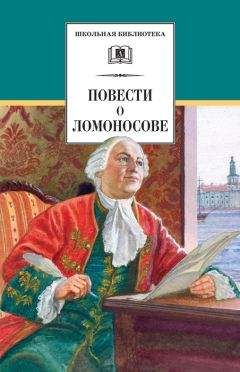– Значит, туда и хочешь поступить? А знаешь ли ты, что поступить в Спасские школы тебе нельзя?
– Это почему же?
– А потому, что вышел указ: крестьянских детей туда не принимать.
Нет, Ломоносов этого не знал. Заметив, как подействовала на Михайлу нежданная новость, Каргопольский сказал:
– Ну, не горюй. Подумаем. Может, и справимся. Друг у меня там в учителях. Постников. Вместе в Париже в Сорбонне учились. Думаю, как-нибудь поможет. Раскинем умом. О другом хочу с тобою потолковать.
Каргопольский налил себе еще водки.
– Вот о чем хочу поговорить с тобой, Михайло Ломоносов. Ты приготовился в большой путь. А я на том пути оплошал. На том самом. Вот и полезно тебе послушать. Ты небось думаешь, что оплошал я в жизни из-за таких вот, как дьякон? Из-за прямых врагов и ненавистников? Нет, не из-за этого сдал Иван Каргопольский. У него хватит и силы, и сноровки на врага. Оплошал я, Иван Каргопольский, обучившийся всем наукам, по своей вине. Против самого себя не выстоял. Вот я бабке сказал: в человеке всегда двое – один делает, а другой его судит. Так второй этот во мне насмешник. Понял? И сомневающийся. Понял? Не выстоял я против сомнения, которое сердце мне грызло и веру холодом обдавало. Понимаешь?
– Понимаю.
Каргопольский выпил еще.
– Это хорошо, что понимаешь. Значит, ты умный. Только умному не всегда легче на свете жить. А меня ты не жалей. Не люблю. И, значит, то, что я оплошал, не от бессилья – это понимаешь? – повысил голос Каргопольский. – Ну, говори!
Михайло ответил, что все хорошо понимает.
– Ну вот и не жалей! Я и сам себя пожалеть могу! Думаешь, нет? Напрасно! Жалеть себя каждый может. Никому не запрещено! Никому! Станется, у человека это самое большое право. А? Как думаешь? Нет! Ошибаюсь я! Не самое большое! А может, как раз наоборот: человеку следует запретить жалеть самого себя? А? Тогда он крепче будет. А? Как думаешь?
Михайло смотрел на метавшегося по комнате Каргопольского. Он задавал вопросы, сам на них отвечал, на мгновение останавливаясь, потом опять начинал метаться.
– Иван Иванович… Зачем это вы? Сто́ит ли?
– Что-о-о?! – загремел Каргопольский, останавливаясь перед Михайлой. – Стоит ли? Да как это так – стоит ли? Да ты мне кто – друг или враг? Не смей мне быть врагом, не смей! Мои враги – только негодяи. Ты не можешь быть мне врагом. Понял? Потому что честный на честного подниматься не должен. Честные между собой всё поделят.
Каргопольский сел за стол, взял перо, подвинул к себе чернильницу и стал писать. Он писал долго, грыз кончик пера, осматривал острие его на свет, сам с собою рассуждал.
– Нет! Ничего не получается. Пьян я! Потом напишу. Как придешь в Москву, прямо иди в Спасские школы и спрашивай там, значит, Постникова Тараса Петровича, учителя. Говорил уже тебе. Отдашь ему письмо, которое я напишу. Он поможет. В письме про все сообщу. Вот. А на словах ты ему, Постникову, скажи еще так. Видел, мол, я, Михайло Ломоносов, Ивана Каргопольского, говорил с ним. И понял, мол, я, что это за птица такая – Иван Каргопольский. Много на своем веку встретивший врагов и не убоявшийся их. И понял, мол, я, что нельзя сомнение допускать в самое сердце. А пусть оно живет около сердца, не входя в него. А в сердце, в самой его глубине, должна жить вера в правду и силу того, что делаешь. Враг не всегда перед глазами, а сомнение, ежели допустишь его к себе, будет всегда здесь. Проснулся, к примеру, а оно уж тут как тут и шепчет тебе на ухо. Тихо, как ржа[28], источит оно веру и стремление. И останешься хоть и сильный, да нетвердый. А этак-то ничего по-настоящему и не совершишь. Ни при чем останешься.
Каргопольский подвел Ломоносова к окну.
– Вон ты каков, значит. Крепок. И глаза настоящие: вдаль глядят. Стало быть, мелочи, что возле, не видят.
Он сел за стол, облокотился на него. Обхватив голову руками, тяжело задумался.
– Пью, привержен, – сказал он, указывая пальцем на водку. – Пью. А почему пью? Думаешь, не горько мне? Горько. Выпьешь – полегчает. Будто веселее на душе становится. Бабка мне как-то сказала: «Когда ты выпивши – веселый, веселье тебе для того, чтобы прятать под ним что другое». – Каргопольский глубоко вздохнул. – Посмотрел я на тебя, Михайло, и припомнил молодость свою и жизнь свою всю, что потом была, припомнил. Свою-то жизнь мне уж поздно исправлять. Так вот, думаю, от моей неисправной, может, его исправная пойдет? Человек умирает, а жизнь его с земли уходить не должна, к другой ей идти, помогать. Вот и запомни хорошо, что скажу тебе: цени всё настоящей его ценой – радость, горе, веру и стремление. Намеренно холода в душе у себя не ищи, пламени не гаси. Теперь иди.
Они пошли к выходу. У самого порога Каргопольский остановил Михайлу:
– Погоди-ка… – Он был как будто озадачен. – Погоди… Нет ли… Хм!.. Да… Может, есть такая вера, которая никакого сомнения не боится? – Каргопольский был в недоумении. – Высокая. А?
О себе ли подумал сейчас Каргопольский, когда говорил это? Или о Михайле? Ежели о себе, то что же – значит, во всю свою жизнь о чем-то самом важном он так и не догадался?
Нет, не о себе…
И как будто тяжесть ушла с сердца. Каргопольский рассмеялся и, облегченно вздохнув, сказал:
– Видно, от зависти это я. Вон как! Твоему будущему позавидовал. Ну, если бы не поверил в него, то и не завидовал бы.
Глава шестнадцатая
МИРСКОЕ ДЕЛО
Сойдя с Куропольского посада, на котором стоит Спасо-Преображенский собор, и пройдя по дощатому мосту через Анашкино озеро, Ломоносов, миновав главную улицу Холмогор, вышел к крутому берегу Курополки, к месту, где он падает к воде земляными щелями.
Внизу в намытых песчаных берегах широко текла медленная и холодная река. За Курополкой, против высокого холмогорского берега, лежал Куростров. Над Нальостровом, Нижней Юрмолой, двинским полоем[29] Ухтостровкой и дальше, к Вавчуге, низко нависли облака. На островах разбросались островерхие стога. Упавший уже мороз покрыл свежей изморозью бурое от дождей сено. Прямо под низкие облака взлетали, и метались в стылом воздухе, и кричали бездомные галочьи стаи.
Глубокая осень была в той поре, когда вдруг к какому-либо утру со всех сторон откроется глазу белая земля, которую сплошь за ночь покрыл упавший тихо в темноте снег, и станет зима.
Склонив голову, Михайло шел по похрустывавшей под ногами, прохваченной морозом дорожной обочине. Шел он медленно, сбивая на ходу носком сапога то кочку, то заиндевевший куст ромашки.
Что же это сказал в конце Каргопольский? Может, по слабости не выстоял он в жизни? Не похоже… Нет. Просто тревожится. Привык к своему страданию и будто тешится им. Рану нарочно бередит.