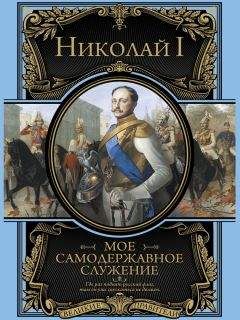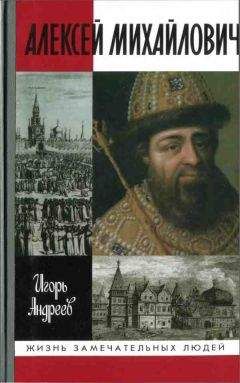– Avant que de me prosterner, maman, veuillez me permettre de savoir pourquoi je devrais le faire, car je ne sais lequel des sacrifices est le plus grand: de celui qui refuse ou de celui qui accepte en pareilles circonstances![116]
Нетерпение всех возрастало и дошло до крайности, когда догадывались по продолжительности нашего присутствия у матушки, что дело еще не решилось. Действительно, брат Константин Павлович прислал ответ на письмо матушки хотя и официально, но на присягу, ему данную, не было ответа, ни манифеста, словом, ничего, что бы в лице народа могло служить актом удостоверения, что воля его непременна и отречение, оставшееся при жизни императора Александра тайною для всех, есть и ныне непременной его волей.
Надо было решить, что делать, как выйти из затруднения, опаснейшего в своих последствиях и которым, как увидим ниже, заговорщики весьма хитро воспользовались.
После долгих прений я остался при том мнении, что брату должно было объявить манифестом, что, оставаясь непреклонным в решимости, им уже освященной отречением, утвержденным духовной императора Александра, он повторяет оное и ныне, не принимая данной ему присяги. Сим, казалось мне, торжественно утверждалась воля его и отымалась всякая возможность к сомнению.
Но брат избрал иной способ: он прислал письмо официальное к матушке, другое – ко мне и, наконец, род выговора – князю Лопухину как председателю Государственного Совета. Содержание двух первых актов известно; вкратце содержали они удостоверение в неизменной его решимости, и в письме к матушке упоминалось, что решение сие в свое время получило ее согласие.
В письме, ко мне писанном как к императору, упоминалось только в особенности о том, что его высочество просил оставить его при прежде занимаемом им месте и звании.
Однако удалось мне убедить матушку, что одних сих актов без явной опасности публиковать нельзя и что должно непременно стараться убедить брата прибавить к тому другой в виде манифеста, с изъяснением таким, которое бы развязывало от присяги, ему данной. Матушка и я, мы убедительно о том писали к брату; и фельдъегерский офицер Белоусов отправлен с сим. Между тем решено было нами акты сии хранить у нас в тайне.
Но как было изъяснить наше молчание пред публикой? Нетерпение и неудовольствие были велики и весьма извинительны. Пошли догадки, и в особенности обстоятельство неприсяги Михаила Павловича навело на всех сомнение, что скрывают отречение Константина Павловича. Заговорщики решили сие же самое употребить орудием для своих замыслов.
Время сего ожидания можно считать настоящим междуцарствием, ибо повелений от императора, которому присяга принесена была, по расчету времени должно было получать – но их не приходило; дела останавливались совершенно; все было в недоумении, и к довершению всего известно было, что Михаил Павлович отъехал уже тогда из Варшавы, когда и кончина императора Александра, и присяга Константину Павловичу там уже известны были.
Каждый извлекал из сего, что какое-то особенно важное обстоятельство препятствовало к восприятию законного течения дел, но никто не догадывался настоящей причины.
Однако дальнейшее присутствие Михаила Павловича становилось тягостным и для него, и для нас всех, и потому решено было ему выехать будто в Варшаву, под предлогом успокоения брата Константина Павловича насчет здоровья матушки, и остановиться на станции Неннале, дабы удалиться от беспрестанного принуждения и вместе с тем для остановления по дороге всех тех, кои, возвращаясь из Варшавы, могли повестить в Петербурге настоящее положение дел.
Сия же предосторожность принудила останавливать все письма, приходившие из Варшавы; и эстафета, еженедельно приходившая с бумагами, из канцелярии Константина Павловича приносима была ко мне. Бумаги, не терпящие отлагательства, должен был я лично вручать у себя тем, к коим адресовались, и просить их вскрывать в моем присутствии. Положение самое несносное!
Так прошло 8 или 9 дней. В одно утро, часов в 6, был я разбужен внезапным приездом из Таганрога лейб-гвардии Измайловского полка полковника барона Фредерикса с пакетом «о самонужнейшем» от генерала Дибича, начальника Главного Штаба, и адресованным в собственные руки императору!
Спросив полковника Фредерикса, знает ли он содержание пакета, получил в ответ, что ничего ему неизвестно, но что такой же пакет послан в Варшаву, по неизвестности в Таганроге, где находился государь. Заключив из сего, что пакет содержит обстоятельство особой важности, я был в крайнем недоумении, на что мне решиться.
Вскрыть пакет на имя императора – был поступок столь отважный, что решиться на сие казалось мне последнею крайностию, к которой одна необходимость могла принудить человека, поставленного в самое затруднительное положение, и – пакет вскрыт!
Пусть изобразят себе, что должно было произойти во мне, когда, бросив глаза на включенное письмо от генерала Дибича, увидел я, что дело шло о существующем и только что открытом пространном заговоре, которого отрасли распространялись чрез всю империю, от Петербурга на Москву и до второй армии в Бессарабии.
Тогда только почувствовал я в полной мере всю тягость своей участи и с ужасом вспомнил, в каком находился положении. Должно было действовать, не теряя ни минуты, с полною властью, с опытностью, с решимостью – я не имел ни власти, ни права на оную; мог только действовать чрез других, из одного доверия ко мне обращавшихся, без уверенности, что совету моему последуют; и притом чувствовал, что тайну подобной важности должно было наитщательнейше скрывать от всех, даже от матушки, дабы ее не испугать или преждевременно заговорщикам не открыть, что замыслы их уже не скрыты от правительства.
К кому мне было обратиться – одному, совершенно одному без совета!
Граф Милорадович казался мне, по долгу его звания, первым, до сведения которого содержание сих известий довести должно было, князь Голицын, как начальник почтовой части и доверенное лицо императора Александра, казался мне вторым. Я их обоих пригласил к себе, и втроем принялись мы за чтение приложений к письму.
Писанные рукою генерал-адъютанта графа Чернышева для большей тайны, в них заключалось изложение открытого обширного заговора, чрез два разных источника: показаниями юнкера Шервуда, служившего в Чугуевском военном поселении, и открытием капитана Майбороды, служившего в тогдашнем 3-м пехотном корпусе.
Известно было, что заговор касается многих лиц в Петербурге и наиболее в Кавалергардском полку, но в особенности в Москве, в главной квартире 2-й армии и в части войск, ей принадлежащих, а также в войсках 3-й корпуса. Показания были весьма неясны, неопределительны; но, однако, еще за несколько дней до кончины своей покойный император велел генералу Дибичу, по показаниям Шервуда, послать полковника лейб-гвардии Измайловского полка Николаева[117] взять известного Вадковского, за год выписанного из Кавалергардского полка.