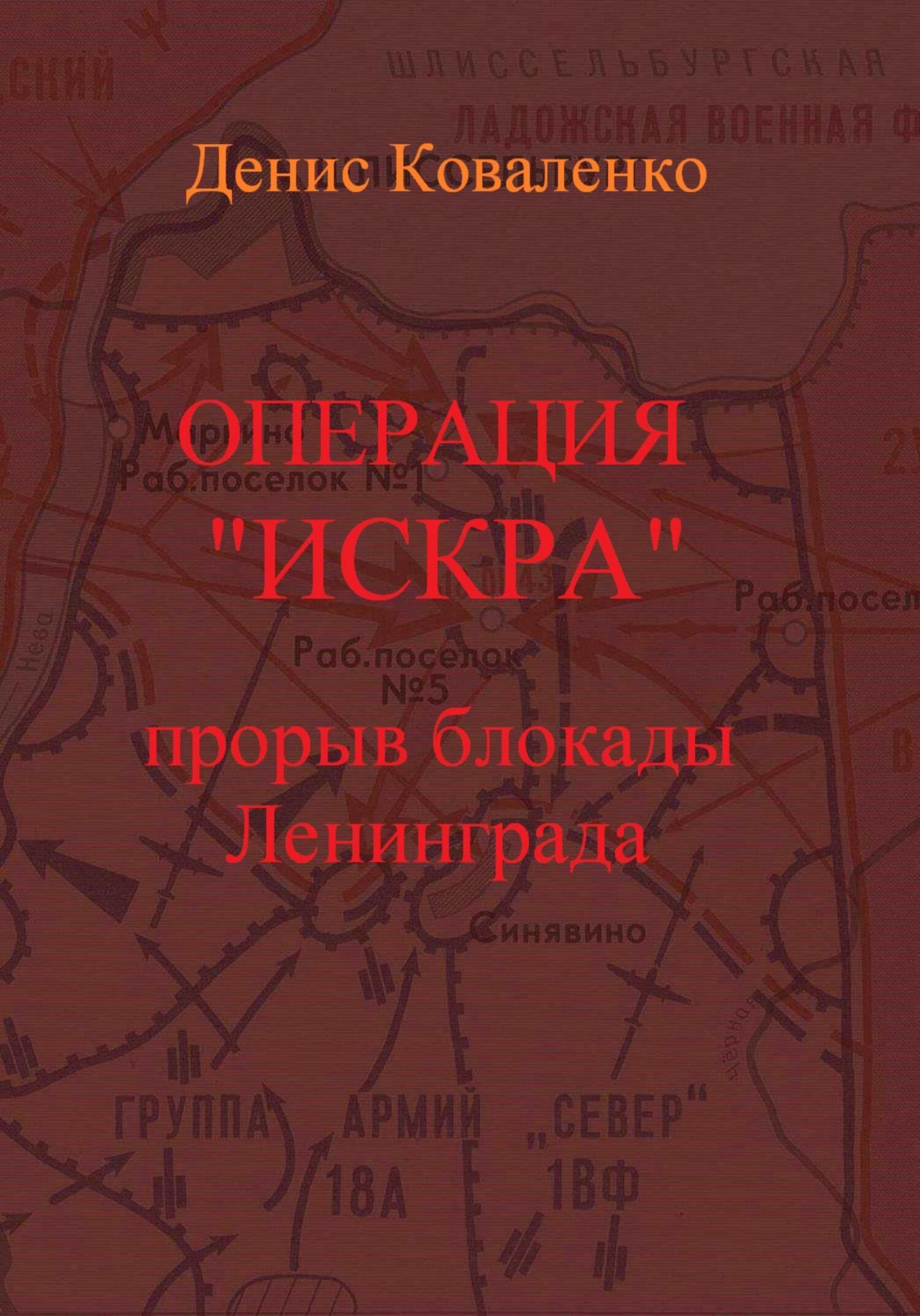очень тревожно, имама решила отправить меня к тете в Армавир. Думала, что я в городе лучше спасусь.
Тетя жила на улице Набережной. За ней сразу Кубань — большая река, широкая. И, можно сказать, очень сердитая. Если с гор идет вода, тают ледники — она так бурлит: ух! Страшно! Может снести и хаты, и все на свете — коварная очень река. А летом бывает спокойненькая. Берег у Кубани, на котором расположен Армавир, очень крутой. На другом берегу — низкое место. Там старая станица. Там люди живут. А еще дальше начинается Ставропольское плато. Это возвышенность, которая идет дальше, к Ростову.
Почему я об этом говорю? Ох, запомнилось мне это плато. Очень запомнилось.
В Армавире это было, впервые дни. Увидела однажды: вовсе небо — куда ни посмотри — черные хлопья пепла. Что такое, откуда? Потом люди сказали — это на берегу Кубани жгли одежду и имущество евреев, загубленных в душегубках. Вот вся река пеплом и покрылась…
Потом на центральной площади повесили трех братиков. Старшему было шестнадцать лет. Повесили мальчиков. За что? Аза то, что старший убил свою мать. А мать снюхалась с немцами… Как тут быть, кто прав, кто нет? А он был комсомолец, этот шестнадцатилетний мальчик. Не смог такой поступок своей матери перенести…
Потом стали заселять немцами весь город. Хочешь, не хочешь — ни у кого не спрашивали. И к тете Марусе заселили двух немцев. Конечно страшно было. Да и повсюду… в людском общежитии — страх очень большой. Настороженность, напряженность, тревога… Но присмотрелись со временем — вроде, и не злые эти «наши» немцы…
Они были рядовые. Вечерами, когда у них было свободное время, прямо на полу посреди комнаты они устраивали акробатические этюды. Это было даже забавно. Я же хорошо помнила ленинградский цирк, куда мы ходили с папой. Очень часто там бывали. Дурова смотрели, с его поездом во главе с медведями, со зверушками…
А я в те дни очень мучилась большими язвами на ногах. Это после блокады, следствие всего перенесенного. И ни тетя, ни мама ничем не могли помочь. Прямо такие фурункулы были… И вот один из немцев это заметил и принес мазь. В баночке, какая-то желтенькая была мазь. Дает мне, мол, возьми, помажь. И действительно скоро помогло. И мы тогда поняли, что и среди немцев тоже есть разные люди… Да, они были солдаты, воевали против нас. Но некоторые душой были добрые…
А под конец, когда они уже уходили из города, один из них показал мне фотокарточку. Пытался что-то рассказать. Ноя же не знаю немецкого языка. А он русского не знает. Достал фотографию, а там изображена молодая женщина. Видимо его жена или невеста. Красивая.
— Вскоре после этого они как-то тихо исчезли эти тетимарусины «жильцы». Мы даже не заметили, когда они ушли. День не приходят, второй, третий. И какое-то затишье в Армавире наступило. Вроде что-то меняется. Но не слышно, чтобы где-то поблизости шли бои.
В один из таких дней проснулась я очень рано. И мне показалась странной воцарившаяся кругом тишина. Подошла к высокому забору во дворе, залезла на его верхушку. И смотрю: что происходит? Непонятно: на Набережной улице ни души. Ну, никогошеньки. Куда же, интересно, все исчезли?.. Потом вижу: вдоль забора, так потихонечку, идут два человека. Двое мужчин в ватниках, одеты вроде по-граждански. Оружия не видно. Меня заметили, спрашивают: «Девочка, а немцы тут есть?» Я в ответ: «Нет, невидно. Тихо. Нету тут немцев…»
Кивнули они и дальше пошли. А я вот еще что увидела со своего забора: за Кубанью, на Ставропольском плато — черные точки! И много этих точек. Все плато усеяно. И они движутся, движутся…
Это наши части пришли, это освобождение.
Слезла я тогда с забора и бегом к тете: «Тетя, наши! Наши идут!..»
Пол года оккупация длилась. Считай: август 42-го — начало, и февраль 43-го — немцев прогнали. И все это время люди мечтали об освобождении. Даже легенды ходили. Что нас спасет генерал на белом коне. Догадайтесь, кто это? Жуков, конечно.
Но немцы, хоть и ушли — огрызались. Сколько еще мстили за свое поражение. Или отдельный самолет, а то и целая группа самолетов налетят и начинают бомбить Армавир. Вот так они мстили — бомбежками.
Еще в Ленинграде я этих гулов наслышалась. И научилась отличать — немецкий самолет летит или наш. У немцев совсем другой звук.
И вот однажды ночью услышала я гул самолета. И говорю: «Теть Марусь, немец летит. Немец, немец…» Ухватила она меня за руку, и мы выскочили из дома. А во дворе траншея вырыта. Там уже люди — и мы туда.
Самолет был один, но беды натворил. Бах: одна бомба, вторая. Совсем рядом. В траншее паника, на другом конце крики — кто-то пострадал. Стали выскакивать из укрытия, нас буквально вытолкали. Только я вылезла — получила по голове доской. А ночь лунная, луна огромная, как фонарь, висит в небе — все хорошо видно. А я получила удар по голове — и темнота в глазах. И пыль, сплошная пыль: вносу, во рту, в ушах. Дышать невозможно.
Огляделись — а нашего дома нет.
А кругом паника — немец делает второй заход. Все кинулись к реке — спасаться. Мы тоже побежали. Добежала я до Кубани и упала без сил, в какую-то ямку голову сунула. А летчик видит, что люди бегут, и из пулемета по ним, из пулемета.
Ой, какая это была мучительная ночь.
Возвратились снова к дому — а его нет. Одна бомба попала соседке в комнату — она погибла, ее разорвало. Молодая красивая женщина — и ее нет. Одни куски человеческого тела. Трудно об этом рассказывать. Когда видишь это своими глазами, когда прямо перед тобой — это жутко.
Вторая бомба упала под окном нашей комнаты. И вот кругом пыль и обломки кирпичей. Кровать покорежена. На окне была сложена стопочка учебников — осколок прошил ее насквозь. На узенькой железной коечке, на которой я спала, перина и подушки — все в пуху. Поискала я там рукой и нащупала свое платье, которое мама мне сшила для школы. Оно осталось целенькое — ни единой дырочки.
Чудом остались живы сын и дочь тети Маруси. В траншею с нами они не побежали, остались в своей комнате. И взрывной волной их выбросило в воронку, засыпало землей. Там их и нашли, откопали.
После Ленинграда, после блокады, эта бомбежка меня так поразила, что я стала заикаться. Вскорости ко двору подъехала лошадка — это был наш спаситель дядя Троша. Я тут же забралась в телегу, зарылась в сено — и все!