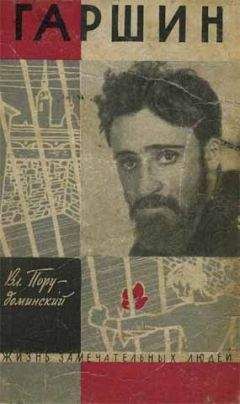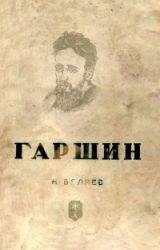Парады кончились. Началась Россия. Царь трясся в своем поезде. Читал доклады и донесения. Недовольно хмурился. Неудачный выпал год. Весной — «процесс 50-ти», на котором обвиняемые произносили такие речи, что не поймешь, кто кого судил. Осенью — «процесс пропагандистов», затянувшийся на долгие недели. Уже ясно: хорошего от него не жди. Революционная зараза проникла на заводы, на фабрики. И война не помогла. На Путиловском бунтовали, на Александровском — тоже, и на Глинковской мануфактуре, и на чугунолитейном заводе Берда… Царь шумно дышал от негодования.
…На другом конце Европы, в Лондоне, Фридрих Энгельс подводил итоги рабочего движения в 1877 году. Он писал: «Нельзя сказать, чтобы в России существовало рабочее движение, о котором стоило бы говорить. Однако внутренние и внешние условия, в которых находится Россия, чрезвычайно своеобразны и чреваты событиями величайшего значения для будущего не только русских рабочих, но и рабочих всей Европы»[3].
…Станции были разукрашены с превеликой помпезностью. На каждой остановке государя императора ждали депутации. Подносили хлеб-соль. Сладко глядя в глаза, произносили речи. Это должно было означать триумфальное шествие победителя.
В Петербурге готовились к встрече. Оформляли фасады зданий. Ставили арки на улицах. В новом цирке Чинизелли испробовали парадное газовое освещение. Понравилось. Решили в честь приезда его величества устроить грандиозную иллюминацию из газовых рожков.
…9 декабря патронный завод не работал.
В десять часов утра больше тысячи рабочих отправились на Смоленское кладбище хоронить погибших. В толпе шли Степан Халтурин, Георгий Плеханов, Валериан Осинский.
Рабочие простились с товарищами, один сказал речь. Полицейские попытались вмешаться, но их отогнали.
…10 декабря в десять часов утра к устланной дорогими коврами платформе вокзала Варшавской дороги подкатил императорский поезд. Собравшиеся на перроне великие князья и княгини, министры, генералы и обер-офицеры — увитые и осыпанные золотом, улыбающиеся, выражающие восторг и преданность — окружили «государя-победителя», подвели к санкам. Пара сытых коней бодро понесла царя по пустой улице, с обеих сторон зажатой сплошными рядами войск. Флаги, ковры, красное сукно с горностаевой опушкой, несмотря на мороз цветы, бюсты государя с ангелом, парящим над венценосною головою и держащим лавровый венок. Гирлянды, арки, бесконечные надписи: «Карс. Плевна», «Плевна. Карс», «Боже, царя храни». С боков, из-за солдатских спин, крики «ура», летящие вверх шапки. Остановка у Казанского собора. Небольшая молитва и краткая речь митрополита санкт-петербургского и новгородского Исидора. И, наконец, — Зимний. Распахнутая дверь. Вытянувшиеся гвардейцы. И над дворцом впервые после восьмимесячного отсутствия его величества вновь взвился императорский штандарт.
…В тот же день к посыпанной легким снежком и по случаю торжеств в городе несколько пустынной платформе Николаевского вокзала подполз обыкновенный, малопримечательный поезд. Вздохнул и остановился.
Из вагона, опираясь на палку, вышел молодой человек в узковатом черном пальто и небольшой барашковой шапочке — известный писатель Гаршин, автор «Четырех дней». Задрал голову, вгляделся в блеклое зимнее небо — Питер! Заторопился, захромал к выходу. Пробираясь в толпе, читал распятые поперек проспекта транспаранты: «Плевна. Карс». «Карс. Плевна». Плевна! Плевна! Плевна! Вспомнил про двенадцать тысяч убитых в третьем плевненском бою. Если положить их плечо к плечу, то составится дорога в восемь верст — чем не проспект для триумфального шествия! Красные сукна, развешанные на карнизах и балконах, казались кровавыми полосами.
Наконец доковылял до Офицерской. Вот и дом № 33. И года не прошло, как он последний раз вышел отсюда. Но тот далекий день навсегда отделила от нынешнего непроходимым рубежом война.
В комнате все по-прежнему. После их с Васей отъезда здесь поселился Володя Латкин. Он ушел куда-то — Всеволод не предупреждал о приезде. Гаршин, не раздеваясь, сел в кресло, вытянул раненую ногу. На столе лежали свежие газеты. Он развернул первую попавшуюся, стал читать. Плевна — Карс! Карс — Плевна! Победа! Победные реляции черной типографской краской замазывали кровавые пятна военных сводок. В пространной передовой какой-то торгаш, поплевывая на пальцы, цинично «подводил итоги»:
«…Что же, разве мы действительно много потеряли? По последним официальным данным всех выбывших из строя считается 70000 человек, а если взять среднее число сражающихся в 350000, то выйдет 20 %, или всего пятая часть армии…»
— Подлость! Подлость! — Гаршин вспомнил, как убирали трупы после есерджийского боя.
«…Следует помнить, что ежегодное естественное приращение России в благоприятные годы равняется миллиону душ обоего пола, а в неблагоприятные периоды, как теперь… Россия все же будет иметь половину процента естественного приращения, т. е. за 1877 год все же приобретет 250000 лиц мужского пола. Следовательно, теряя на войне даже все 250000 человек, мы не трогаем основной государственной силы — народонаселения…»
Гаршин скомкал газету, швырнул на пол. Позабыв про палку, вскочил, быстро сделал несколько шагов, пришел в себя от резкой боли в ноге, упал на кровать, расстегнул ворот. Потом поднял газету, расправил, стал читать дальше.
«…Нельзя не сознаться с другой стороны, что потеря 70000 человек равняется расходу в 14 миллионов рублей, если считать в военное время стоимость вооруженного человека в 200 рублей…»
— Так вот, оказывается, твоя цена, убитый Федоров Степан, — две сотенных! Уж все-то он знает, образованный господин журналист… Его бы туда — под Аяслар, под Плевну — глядишь, и набавил бы…
«…В мирное время он стоит вдвое меньше…»
— А это, Степан, обо мне.
«…Что же такое эти четырнадцать миллионов, когда война истощает миллиарды? Следовательно, ввиду громадной задачи, принятой на себя Россиею, потеря не только 70000, но и тройного числа не составляет для нее большого ущерба».
Так и сказано: «Не составляет для нее большого ущерба». Гаршин аккуратно сложил газету, встал, добрался до окна, присел на подоконник. Закурил. Весело, по-праздничному — шли по улице люди. И каждого недавно могли убить — пулей, штыком, гранатой. «Без большого ущерба». Тысячу человек могли убить. Двадцать тысяч могли убить! Сто тысяч! И всех «без большого ущерба».
Стемнело. На небе вдруг вспыхнуло, засуетилось рыжее зарево — на Невском зажгли иллюминацию. Володя пришел поздно вечером.
— Всеволод!
Обнялись крепко.