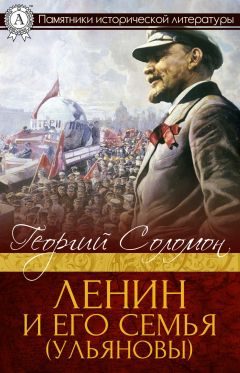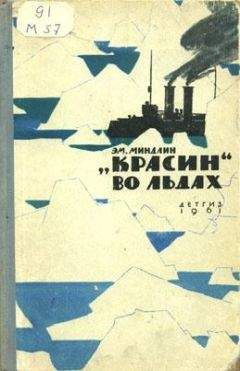Ознакомительная версия.
Но это было еще с полгоря, все то, что было направлено лично против меня. Было многое гораздо хуже. В своем пошлом обывательском ослеплении, смешивая все понятия и уже совершенно не отделяя личного от общественного, исключительно думая о себе и о своем маленьком «я», эта публика просто мешала мне работать, противодействуя всему, что исходило от меня… И тут, конечно, я не мог оставаться спокойным наблюдателем жизни со всеми ее проявлениями, но в интересах моего служения должен был бороться, т. е. принимать известное участие в склоке, как это было, например, ну хотя бы в вопросе о назначении меня в Гамбурге консулом.
Не мог я, разумеется, оставлять без внимания те случаи — а их было миллион, — когда в посольстве творилось что-нибудь, явно направленное в ущерб делу. Напомню хотя бы о том, как все, кому было не лень, тратили деньги из государственной казны, на которую, повторяю, вся эта публика даже до образованного, но слабохарактерного Иоффе включительно, смотрела как на свою собственность, которой можно располагать по своему усмотрению… Упомяну также и о том, о чем я не говорил или очень мало говорил до сих пор, а именно об неудержимом обжорстве моих сотрудников. Явившись по своему положению нуворишами[22], дорвавшись до момента, когда они получили возможность, никем и ничем не сдерживаемые, «лопать» (да простит мне читатель это совсем не литературное выражение) сколько угодно и что угодно, и даже как угодно, они не стеснялись и форменным образом обжирались. И помимо того, что приобреталось за большие деньги в Берлине, из голодной, уже истощенной России постоянно доставлялись дипломатическими курьерами разные русские деликатесы, как икра, балык, колбасы, масло, окорока, консервы… Как ни пошла борьба в этом направлении, как ни унижает она человека, но я не мог и здесь не положить предела аппетитам сотрудников… И, конечно, это вызвало еще большее озлобление против меня и частое нарушение тех или иных введенных мною ограничительных норм. Упомяну вновь о низшем персонале, состоявшем из немецких граждан, главным образом, спартаковцев, которые, видя, как обжорствуют «господа» и считая себя равными с ними, следовали их примеру… Этот низший персонал, пользуясь внутри посольства неограниченной свободой, вечно устраивая какие-то собрания, тратя на них служебные часы и вырабатывая на них какие-то новые требования и протесты… Были, например, протесты по поводу того, что в столовую служащих на десерт подавался компот, а им просто сырые фрукты… И здесь шли склоки и дрязги, в которых мне приходилось вечно разбираться и по поводу которых мне приходилось держать ответ перед уполномоченными партии… Но были обстоятельства еще серьезнее.
Выше я говорил, что посольство было окружено целой сетью посторонних ему лиц. Тут были представители разных партий, а также и просто — иногда прикрытые партийной принадлежностью — охочие люди, стремившиеся использовать момент и урвать там, где, как они видели, плохо лежит. Эти последние выступали в виде разного рода посредников, говорили о своем влиянии в тех или иных политических партиях, на тех или иных политических деятелей, обещали устроить то или иное дело в интересах России… По заведенному еще до моего прибытия в Берлин порядку вся эта пестрая публика вела свои переговоры непосредственно с Иоффе или «личным секретарем» посла…
И народные деньги таяли и тратились зря, обогащая этих людей.
Я упомянул об одном из них, которого мне вместе с Менжинским удалось обезвредить, именно о Парвусе. Но устранение его вызвало, как я упомянул, много личного озлобления против меня…
И, разумеется, все это, вместе взятое, не могло не вызвать во мне горьких размышлений и тяжелых сомнений. Позволю себе сказать, что, решив идти на советскую службу, я шел на борьбу. И вот эта борьба развернулась передо мной и поглотила меня всего. Но что это была за борьба! Увы, это была мелкая, пошлая борьба с мелкими ничтожными людишками, черпавшими свою силу и энергию в своей первобытной, оголенной от всего высокого морали и этики…
Уже в Берлине во мне начали говорить сомнения, не сделал ли я крупную ошибку, пойдя на советскую службу. Уже там мне часто начинало казаться, что вся моя работа бесцельна, что бессмысленны все приносимые мною жертвы, что меня это советское чрево сожрет и поглотит так же, как в лице моих посольских товарищей оно пожирает и уничтожает разные деликатесы. Но жизнь была сильнее размышлений — она требовала, чтобы я не обращал внимания на всю эту пошлость, которая меня окружала, она втянула меня в свое колесо и вертела мною по своему произволу… И тогда я впервые понял на самом себе, что значит поговорка «коготок увяз»… Но во мне все еще тлела какая-то надежда, что все, о чем я упоминал, не что иное, как только ряд мелочей, обычных в жизни, что они являются лишь результатом переходного времени, что борьба с ними и возможна, и необходима, и что она не может не быть плодотворной, и под ее влиянием все это мелкое, ненужное исчезнет, как накипь. Хотелось верить, что все эти отрицательные стороны представляют собою следствие ломки старого, ненужного и постройки нового, необходимого. Хотелось верить, что сознание того, что именно необходимо, проникнет в сознание наших товарищей, и они пойдут по пути настоящего строительства новой жизни, отказавшись от всего утопического…
И, мучаясь в своих сомнениях, я говорил самому себе, что за всей этой обывательской пошлостью, за всеми этими перебоями стоит прекрасная и великая и такая чистая Россия, которой должно служить, не щадя себя и не предъявляя ей — даже в своих мыслях — никаких счетов за личные жертвы и лишения, ибо переживаемый великий процесс должен закончиться, и закончится торжеством России и ее великого народа… А в сравнении с этой великой целью таким ничтожным и смешным казалось мне мое маленькое «я»…
Итак, 8 октября соглашение о покупке угля у германского правительства было подписано, и 9-го утром я со своим штатом уже выехал в Гамбург. Там на вокзале меня встретили представители пароходства и страховых обществ, тоже спешивших с отправкой угля в Петербург и потому выехавших в Гамбург еще до подписания соглашения. Эти лица все подготовили к моему приезду: заняли помещение для меня в гостинице, а также устроили для меня временно консульское бюро в одном из многочисленных громадных домов, сплошь наполненных пустовавшими, ввиду войны, помещениями, специально приспособленными под коммерческие бюро. В одном из них я временно устроил свою канцелярию. И, таким образом, в тот же день мы могли уже начать работу, материалы для которой были заранее подготовлены этими обоими представителями. Работа была очень спешная, сложная и нервная. Ввиду того, что нормальная консульская работа не требует значительного штата служащих, отправка же угля представляла собою явление временное, я ограничился очень небольшим личным составом. Он состоял из секретаря консульства, бухгалтера, делопроизводителя, помогавшего бухгалтеру на время спешки с отправкой угля, машинистки и агента для торговых поручений.
Ознакомительная версия.