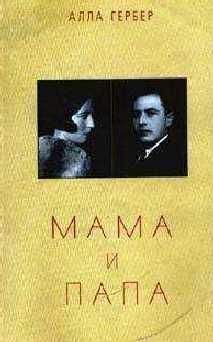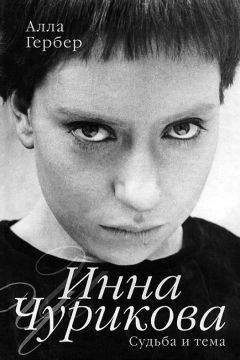"Только не говори, что я потратила на них всю жизнь, а на что мне еще ее было тратить? Это я виновата, что выбрала им такого отца, так что давай не будем..."
"Ну хорошо, хорошо, ты в долгу, а они? Они ничего не должны? Два здоровых парня смотрят, как ты вкалываешь..."
"Пошла к черту, — злилась Жанка, прикуривая папиросу от папиросы. — Что ты мне мораль читаешь, сама такой будешь. Они меня любят. Когда я их прошу, помогают. Но зачем: когда я, слава богу, здоровая баба и мне проще сделать самой, чем просить, да еще натыкаться на отказ... Знаешь, обидно, уж лучше самой, так спокойней".
И они привыкли, что она сильная, что не умеет уставать, что ей скучно без дела. Что таскать тяжелые сумки, дежурить две ночи подряд, а после этого надраивать квартиру, печь им пироги, жарить любимые блинчики — все это норма для их Жанки, которую они действительно любили и дарили ей по праздникам подарки. В такие дни лицо ее светилось, и она заговорщически подмигивала мне: вот видишь, а ты говоришь... И я ничего больше не говорила.
И она привыкла. Привыкла лечить других, привыкла, что все кругом больны, — все, кроме нее, и потому долго не обращала внимания на собственные недомогания, запустила болезнь, которую если бы вовремя... Если бы... Но тогда это была бы не Жанка. Она настолько привыкла болеть за всех, что о собственной болезни и думать себе не позволяла. Она всегда бодрилась, придумав себе стиль неутомимой и неистребимой, — так ей было легче, так меньше тосковала по необходимой женщине заботе, таком обязательном, в любом возрасте, внимании к себе. Но она бодрилась, делала вид, что все в порядке, — ей страшно было признаться, что она, в сущности, совсем одна. Что два здоровых парня, которых она, так рано потерявшая мужа, любила со всей ЕМУ не отданной, с НИМ не пролитой женской любовью, разрешали ей тянуть непосильный для женщины воз. Они были славные ребята —остроумные, красивые, легкие... Настолько легкие, что терпеть не могли обременять себя трудностями, тем более что Жанка так легко брала их на себя. Не очень напрягаясь, они вполне прилично учились — иногда хуже, иногда лучше, в зависимости от настроения, но особого повода для вызова в школу не давали — Жанка сама туда заезжала, чтобы спросить, не надо ли кому чего в смысле медицинской помощи... В компании за столом им просто цены не было — анекдоты, шутки, вполне одесский юмор... Нет, они были симпатичные ребята — признаться, я тоже их любила. Ну, а то, что Жанка — сумки, Жанка — уборка, готовка, Жанка — работа не по силам, что с ней не пропадешь, а сама пропадала... Так кто же это видел, она ведь молчала, ничего не говорила.
Только в последний мой приезд Жанка призналась, как тосковала от своего одиночества, забивая его работой. Как стеснялась сыновей и потому не разрешала поклонникам приходить к ней, а с годами и отказывать стало некому, никто особенно не рвался. Как по вечерам сидела одна перед телевизором, часто не видя, что по ящику показывают, потому что всегда ждала, всегда волновалась, где они, ее мужчины, которые никогда не приходили в обещанное время, а она, насмотревшись на "скорой" драк, катастроф, аварий, боялась, что с ними что-то случилось. А с ними ничего не случалось — просто не было двух копеек на телефонный звонок. И когда она, не выдержав, ложилась спать на свою громадную, в полкомнаты, тахту "Лира", ужин под белой салфеткой всегда ждал их.
Только в последний мой приезд она призналась, что неважно себя чувствует. Но по-прежнему работала на "скорой" и от ночных дежурств не отказывалась — но не спать после них уже не могла. И когда ее звали срочно сделать укол или измерить давление к одинокому соседу, у которого оно по-прежнему, вот уже сколько лет скакало ("Жанночка-розочка, Жанночка-цветочек, я вхожу в криз..."), она не вскакивала с прежней легкостью, а медленно подымалась, механически, без зеркала, проводила помадой по губам, зачесывала пятерней рыже-красные волосы, хотя раз в месяц добросовестно красилась и причесывалась в парикмахерской, но все это без прежней радости обновления и затаенной надежды, что однажды откроется дверь, и войдет военврач в парадном мундире, и, протянув руку, уведет ее обратно в счастливую жизнь на... войне.
После операции ей строго-настрого запретили вести прежний образ жизни. Месяц или два она, как советовали врачи, берегла себя, но, быстро забыв о мерах предосторожности, благо какое-то время чувствовала себя лучше, опять ехала на Привоз, где подешевле, и, желтая от усталости, еле доплеталась с тяжелыми сумками домой. Но... папироску в зубы, волосы под косынку — и... суконкой по паркету, тряпкой по шкафам, одна нога на кухне, другая — у соседей. А мальчики, счастливые, решили, что все по-прежнему, что их Жанка молодец, что она сильная, что с ней не пропадешь. Птица Феникс, которая горит не сгорая, Ванька-встанька — упадет и опять подымется. И когда однажды она не смогла подняться, они растерялись. Они не на шутку испугались, потому что заблудились в собственной квартире.
Незадолго до смерти Жанка приехала в Москву. Это было Девятое мая — тридцать пять лет со дня окончания войны. Жанка наконец выбралась на встречу со своими однополчанами. В новом вишневом, к глазам, костюме, в тесных туфлях на непривычно теперь высоких каблуках, тщательно уложенная в парикмахерской — крутые завитки после свежей химической завивки, с орденом Красной Звезды, оттягивающим легкий шелк костюма, Жанка казалась чужой и официальной — не Жанка, а представитель высокого учреждения, делегат на сессию... Она очень волновалась, узнают ли ее "ребята", и от волнения становилась еще строже, еще меньше похожей на себя. Она точно окаменела от страха — не смеялась, не шутила, не рассказывала новые анекдоты. Стояла на балконе и курила папиросу за папиросой, отчего бледнела еще больше. Не пила, не ела, а только заглатывала таблетки, пытаясь унять надвигающиеся приступы боли. Я хотела ее проводить, боялась, что в таком состоянии она не дойдет до ресторана "Прага", где должна была состояться торжественная встреча, но она категорически отказалась: "Я сама..." Сама так сама. Опять сама. Уже на пороге она вдруг остановилась: "Может, не идти, а? Нет, ты скажи, узнают меня?"
"Узнают, Жанка, как тебя не узнать... Ни пуха..." — "К черту", — словно самой себе ответила Жанка и пошла к лифту твердым солдатским шагом, забыв о своих высоких каблуках. Узнают, подумала я, хотя секунду назад сама не верила своим словам. Не верила, что в этой высохшей, выбеленной пудрой, чтобы скрыть землистый цвет лица, завитой и отлакированной, с тяжелыми веками, закрывшими ее когда-то большие, хохочущие, вишневые, как у нашей погибшей бабушки, глаза, — бывшие однополчане узнают свою Жаннету, которая танцевала с красавцем майором вальс в Будапеште, в Варшаве и в Берлине.