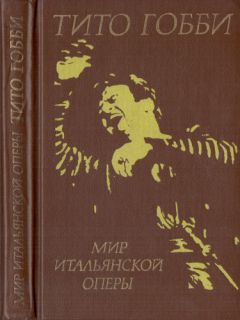Ознакомительная версия.
Действующие лица сцены – Лир, шут, Кент и еще один персонаж, придуманный самим композитором: безумный паломник, вообразивший, что в него вселился бес. Этот несчастный, конечно, не кто иной, как Эдгар Глостер, который у Шекспира, спасаясь от козней своего коварного брата Эдмунда, прикидывается сумасшедшим. Но маэстро не хотел перегружать оперу параллельной интригой – излюбленный у Шекспира прием; а потому он исключил трагедию Глостера и ввел фигуру бесноватого, необходимую, казалось ему, для сцены суда.
Ход действия таков: выход Лира и шута. Лир призывает богов и природу отомстить его подлым дочерям. Входит верный Кент, узнает своего господина (который, когда был королем, подверг его несправедливой опале) и уговаривает его поискать более надежный кров в эту страшную ночь. Шут изрекает свои горькие шутки и сентенции. Лир неистовствует. Вдруг из темноты доносится голос – это одержимый паломник бубнит свои молитвы и заклятия. Лир, уже совсем в бреду, требует суда над дочерьми, объявляет сумасшедшего судьей, а шута и переодетого Кента – членами суда. Мрачное безумие в хижине и буря в степи достигают кульминации. Лир, обессилев, падает и с невнятным бормотанием засыпает. Трое остальных кладут его на нары и безмолвно накрывают плащом. Занавес.
Введение такого акта в оперу было по тем временам большою смелостью. Три четверти часа подряд на сцене только четверо мужчин, и все четверо – безмерно несчастны. Главный герой – предательски отвергнутый отец, обезумевший от ярости и горя. Второй, доподлинный безумец, испускает сдавленные стоны и произносит страшные молитвы. Третий должен разыгрывать шута, потому что нужда и слишком чуткое сердце не дали ему другого исхода. Четвертый – благородный рыцарь, который за горькую обиду мстит, как херувим, великодушием.
Говоря практически: три баса (Лир, Кент, шут) и один тенор (паломник); последний, однако, лишен возможности использовать счастливые преимущества своего голоса. Далее: акт нигде не представляет случая для настоящего лирического кантабиле, для яркого выступления хора, для эффектных стретт.
В отличие от других мастеров, идущих от школьного образования и литературы, Верди отметал всякую оригинальность – не потому, что ему недоставало выдумки, а потому, что он, ясно видя существо своей задачи, попросту запрещал себе эту оригинальность. Да и что такое оригинальность? Чаще всего – отчаяние потерявших почву под ногами. Чем беспочвенней искусство, тем отчаянней оно бросается в область неизведанного. Верди не знал такого отчаяния. Со своим античным чувством справедливости, не склонный преувеличивать значение своего «я», он признавал внутреннюю правду условности, ее благородную ценность. Не мог он ущемлять ее только из злобы парии ко всему господствующему. Прежде чем на это решиться, он тщательно взвешивал: можно ли и нужно ли. Так, по крайней мере, он поступал до сих пор.
Музыкальное движение акта шло по следующему плану:
I. Речитативный монолог Лира, похожий на знаменитый монолог Риголетто во втором акте.
II. Дуэттино: Лир и шут; причем шут поет маленькую ироническую песенку.
III. Появление Кента – короткий, стремительный терцет: Лира убеждают укрыться в более надежном убежище. Он отказывается.
IV. Исступление и молитва бесноватого. Новый порыв бури в оркестре, женский хор без слов в верхнем регистре. Маленький, быстро обрывающийся квартет a cappella,[30] образуемый молитвой паломника с вмешательством трех остальных.
V. Нарастание бури. Лиром овладевает безумие – короткие, сбивчивые обрывки мелодий. Из отдельных моментов суда – от первого анданте грандиозо, жуткого по самой ситуации хорала, до последнего велочиссимо,[31] в котором главную партию ведет неистовствующий король, – рождается большой заключительный квартет. Номер непривычно обрывается сам собой на середине. Шут опускается на колени перед поникшим, лепечущим Лиром. Повторное соло английского рожка дает реминисценцию двух первых тактов его песенки. Короля кладут на нары, и сцена тихо погружается во мрак под широкие мелодические голоса духовых басов в оркестре.
Таков был план в целом. К этому имелось множество уже положенных на ноты музыкальных мыслей. Контрабасы должны были не только от паузы до паузы подвывать басам, но получали свои соло, взволнованно вступали в права. Когда пел шут, в партии аккомпанирующего инструмента возникали форшлаги – нередко в двенадцать нот. В одном месте на проклятия Лира весь оркестр отвечал в унисон мощной трелью. Маэстро не побоялся здесь ни частой, всегда неожиданной смены счета, ни судорожных ритмов.
Но прежде всего композитору здесь дорог был один принцип, которому он бессознательно следовал еще в квартете «Риголетто». Однажды в разговоре с Бойто он нашел для этой своей идеи такие слова:
«Дело не в полифонии, а в „поливокальности“. Каждый голос должен рождаться из пения и, следовательно, быть в смысле пения доподлинно голосом».
В другой раз он сказал:
«Чудо музыки в том, что она может говорить о многом сразу. Но главная цель все та же: чтобы из одновременного звучания многих голосов рождался единый новый голос, из разнородности – высшая гомофония, то есть мелодия. Не так ли полифония семи цветов дает гомофонию единого света?
В этом Палестрина, Лука Маренцо и композиторы, разрабатывающие стиль a cappella, стоят много выше Баха, который в какой-то интеллектуальной злобе пренебрегает сладостным слиянием многоголосия в высшую гомофонию. Полифония может быть хороша, но она должна оставаться неосознанной».
План был готов, мысли выверены, наброски лежали перед маэстро. Но когда он глядел на это месиво нотных знаков, на все эти полуфразы, темы, речитативы, разные формы аккомпанемента, его охватывало снова какое-то отвращение, оцепенение, которое вот уже десять лет отравляло ему жизнь. Так это и есть материал, и его должно хватить на создание нового произведения? Но все это уже сотни раз звучало – и у него самого, и у других!
Неужели он больше ничего не придумал, кроме топота аккордов, обозначающего ужас, напыщенных звуковых рядов, двадцать раз уже примененных им раньше, в разработке роли отцов, этих болтливых sostenuto religioso,[32] к которым охотно прибегали еще Доницетти и Россини, когда в своих шаловливых пьесах выволакивали на сцену бога? Разве все это не затаскано до бесстыдства? Не заслуживает ли он уже давно второстепенного места в затхлой коллекции маркиза Гритти? Достоин ли он называться хотя бы эпигоном Рихарда Вагнера? Ведь он никогда не создавал ничего нового и, очевидно, не по праву возвысился над Меркаданте, Пачини, Риччи, Петреллой, Мабеллини, – им просто меньше посчастливилось, чем ему. Он однажды дерзнул заявить: «Успех – это вовсе не удача, это таинственная сила удачника». Глупое, заносчивое хвастовство! В этой области царят, конечно, бессмыслица и слепая случайность!
Ознакомительная версия.