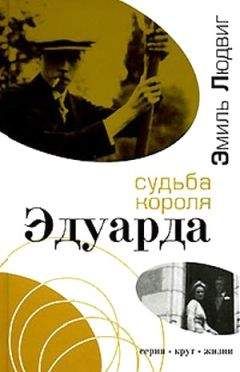…Именно упорядоченная система, управлявшая его действиями, которая, как полагали, не соответствовала нравственным объектам, сделала меня пламенным его учеником».
Но, сделав это признание, Гёте тотчас пишет в альбом изречение Шефтсбери: «Наиболее простой способ стать глупцом — стать им с помощью системы».
Впрочем, обращаясь к Спинозе, он обращается не столько к системе, сколько к человеку, который создал систему. Интерес его приковывают к себе личные качества Спинозы, его переписка, его манера обращаться с домочадцами, его умение оттягать наследство, его походная кровать, его слава государственного деятеля.
В центр всего Гёте ставит личность и требует от нее действий. Его друг Лафатер жалуется ему на некоего чиновника. Гёте тотчас же загорается. Он желает, чтобы Лафатер, не скромничая, описал ему все обстоятельства, дабы «я мог измерить тебя твоими делами. Такое дело стоит сотни книг, и если бы для меня вернулись прежние времена, я бы примирился с целым светом. Опиши мне все как есть, заклинаю тебя!» Гёте жаждет движения, активности: «Я не ленив и, покуда живу на земле, обрабатываю свой клочок земли каждодневно». Кое-что из этих настроений звучит в его сатирах и в критических статьях. Но бывают часы, когда он презирает свои статьи, как суррогат творчества, и восклицает: «Зачем судят нас по нашим творениям?.. Разве то, чем мы мараем бумагу, когда пишем или печатаемся, разве это наши плоды?» Стремление творить добро, заставляет нашего аморалиста быть внимательным к детям, к друзьям, даже к незнакомым. Он посылает книги братьям Лотты. Его долго огорчает размолвка с ее младшей сестренкой. Какому-то малышу дарит он новенький хеллер, какому-то музыканту пытается подыскать текст для музыки и добиться исполнения его произведений. Он дает возможность поэту Клингеру получить образование, заставляет его принять помощь, содержит его целый год.
Поступает он так вовсе не из чистой любви к человечеству. Ему гораздо более свойственны презрение и насмешка. Стремление найти дружбу и понимание в окружающих всегда борется в Гёте с нервической жаждой одиночества. Только этим объясняется и его тяга к друзьям и внезапное отталкивание от них, смена веселости и меланхолии. Встречаясь с самыми различными людьми, он всегда благороден, всепонимающ, терпелив. Но горе тому, кто вздумает высказать свое мнение и выступит — против его непогрешимых книг.
Нередко он собирает в своей комнате немногих верных друзей, устраивает поэтические пирушки. Они читают друг другу стихи, изливают сердце, мечтают. Во время поездки по Рейну, которую он совершает тотчас после выхода «Вертера», он буйно веселится. На одном светском приеме, не в силах усидеть на месте, он величает себя «дитятей мира», танцует вокруг столов, строит гримасы, бахвалится королевскими почестями, с которыми его встречают в избранном кругу. Но это не безоблачная, а какая-то бесовская веселость. «Бывая в обществе, — признается Гёте, — мы вынимаем ключ из нашего сердца и суем его в карман. А те, кто вынимает его оттуда, те просто дураки… Я бы многое сказал тебе, ежели бы ты не показывал мои послания всем, кому попало. А я не терплю, когда открывают мою сущность человеку, которому я не открыл бы и десятой доли того, что в них написано». Он и приглашение вступить в масонскую ложу отклоняет из того же «чувства независимости». Даже в своих воспоминаниях Гёте говорит: «Люди, полагавшие на основании моих сочинений, что я любезен, всегда разочаровывались, увидя человека холодного и отталкивающего».
Народ в массе ему чужд. Но люди из народа, с которыми он случайно сталкивается, ему всегда милы. Подслушав разговор своей матери с крестьянкой, он записывает пластические выражения деревенской речи и даже переносит их потом в новую записную книжку, в которой собирает народные выражения. «Лучшие люди встречаются только среди народа!» записывает Гёте в этой же книжечке. Он убедился в этом еще раз, когда принимал деятельное участие в тушении пожара, вспыхнувшего на Еврейской улице. Зато, попав в ярмарочную сутолоку, он тотчас вспоминает слова Аристотеля: «Толпа достойна умереть прежде, чем она родилась».
Впрочем, другой раз Гёте говорит: «Можете ли вы обвинять толпу за то, что она восстает, не желая, чтобы ее ворошили, теснили, отпихивали те, кто не имеет на нее никакого влияния?»
В этих словах предвосхищена позиция Гёте по отношению к революции, которую он займет через двадцать лет. Он любит народ как идею, он изучает в нем отдельного человека. Толпу он не любит и презирает.
«Я лежал, уйдя в себя и без конца вопрошая свою душу, достаточно ли во мне сил перенести все, что железная судьба предуготовила в будущем мне и моим близким? Найду ли я скалу, чтобы построить на ней крепость, куда в случае нужды смогу укрыться со всем моим имуществом?» — так пишет поэт своей подруге.
Не случайно этот юноша, прославленный, избалованный, богатый, стоящий в преддверии блестящего будущего, обращается к образу Вечного жида. В своей короткой музыкальной комедии «Эрвин и Эльмира» он заставляет бедного нежного Эрвина произнести вдруг следующие слова:
Горе терзает,
Грудь мне снедает,
Вечно томленье,
Нет утоленья!
Цвесть увядая,
Жить умирая Адский удел.
Где же предел?
Так под спокойной поверхностью бушует стихия.
«Вы спрашиваете, счастлив ли я? Да, моя дорогая. Но даже если я и несчастлив, во мне, по крайней мере, живет глубокое ощущение радости и страдания. Никто, кроме меня самого, не мешает, не препятствует, не тревожит меня. Но я словно малый ребенок, видит бог!»
Так, сидя в повозке, которая мчится то в гору, то под гору, он видит, как навстречу летят, мелькая, события. А на облучке сидит время, оно гонит лошадей. Даже внешний вид гётевских писем того времени: расстановка знаков препинания, почерк — все свидетельствует о том, как он мечется, как загнан. Когда он посылает в печать свои рукописи, над ними еще приходится работать другим — дописывать в них буквы, выверять текст, исправлять орфографию. Рукописи его валяются в беспорядке, пишет один посетитель, он извлекает их из всех углов комнаты; и вдруг им овладевает такой педантизм, что, посылая какой-то свой рисунок приятельнице, он молит ее: «Только ради всего святого сохраните его аккуратнейшим образом. Вообще-то я очень небрежен, но даже морщиночка на подобном предмете приводит меня в бешенство». Две души, о которых гораздо позднее Гёте скажет в «Фаусте», вовсе не вмещают той борьбы, которая происходила в нем. И эту внутреннюю борьбу Гёте никогда не вмещал в одном персонаже. Ни один из гётевских образов не есть Гёте. Он всегда воплощал себя в двух противоположных образах, иногда даже в женских. Может быть, здесь мы найдем подлинное объяснение, почему поэт, по преимуществу лирик и эпик, пришел к драме и уже никогда не мог с ней расстаться. Еще в юности, когда его внутренний конфликт проявлялся с особой резкостью, он чаще всего пользовался диалогом и даже самой маленькой пародии придавал форму пьесы. Вовсе не каприз и не отсутствие самодисциплины повинны в том, что в этот период он заканчивает только небольшие вещи, а такие произведения, как «Фауст», «Прометей», «Магомет», «Цезарь», остаются фрагментами.